ОЖИДАЮЩАЯ КУЛЬТУРА
Эзотерические
очерки русской истории и культуры
КНИГА ВТОРАЯ
Очерк пятый. КЛЮЧЕВОЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ
Очерк шестой. МИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
Воплощение тройственной души
Единая и тройственная душа
Галерея мыслеобразов
Очерк седьмой. СКАЗКИ ХХ-ГО ВЕКА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (1990 г.)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдельные выдержки из духовно-научных сообщений
Рудольфа Штайнера о многочленном существе человека
и некоторых существах духовного мира
Примечания к книге второй
Иллюстрации к книге
Очерк V
КЛЮЧЕВОЙ ПЕРИОД РУССКОЙ ИСТОРИИ
"Кратковременное царствование Павла I вообще
ожидает
наблюдательного и беспристрастного
историка, и тогда узнает свет, что оно было
необходимо для блага будущего величия России..."
В.Штейнгель, декабрист.
Эпоха Петра I является поворотной
в истории России, - на этом сходятся как противники, так и упорные защитники
петровских реформ и нововведений. Отношение к Петру является, в известном
смысле, пробным камнем для всякого, кто хочет судить о последующем ходе событий
русской истории. Сторонники Петра видят в нем правителя, который решительно
вывел Россию из "мрака невежества" на путь просвещения и прогресса, сделал ее
европейской державой, способной сказать свое слово во всех делах мировой
политики. Далеко не столь же просто обстоит ело с критикой петровских деяний,
которые, как обнаружилось позже, привели к следствиям, бросающим все
возрастающую тень на вызванное ми русское prosperite. Реформы Петра по своему внутреннему характеру напоминают
версальские мирные соглашения 1918 г. В основу последних, как известно, была
положена программа из 14-ти пунктов американского президента Вудро Вильсона.
Всей европейской дипломатии эта программа, на первый взгляд, показалась просто
верхом здравого смысла, даже гениальной, но позже, разъехавшись из Парижа по
домам и [и раскинув умом, многие из них пришли в ужас, обнаружив, что в
программе был заключен поистине дьявольский подвох, что она не укрепила мир в
Европе, а создала предпосылки для следующего мирового конфликта.
У Петра имеется много сторонников
в среде как монархистов, так и социалистов. Из историков на его стороне - все
представители государственной школы. Наиболее характерным выражением их
взглядов с полым правом можно считать "Публичные чтения о Петре Великом"
С.М.Соловьева. Они представляют собой цикл из 12-ти лекций, прочитанный маститым
историком в 1872 г. перед широкой московской общественностью о случаю
200-летнего юбилея Петра I. Не станем вдаваться в методолоические принципы, на
которых автор строит свои "Чтения". - Главным образом, он безоглядно следует за
О.Контом, сравнивавшим развитие общества с развитием отдельного человеческого
организма. Что се касается реформ Петра I, то свои аргументы в их пользу
Соловьев сводит к аксиоме: только
централизованное государство могло спасти Россию. Эта позиция Соловьева
известна и из его многотомной "Истории", но в "Чтениях" изумляет то, как
историк ее отстаивает. Сначала (во втором чтении) он говорит о том, что русское
государство (княжества Киевской Руси, уточним мы) было вынуждено вести
изнурительную борьбу с "жителями степей". - Что ж, с этим, пожалуй, ни прежде,
ни теперь никто не спорит. Но Соловьев аргументирует свою мысль и приводит
пример: "Вскоре после основания государства четвертый русский князь
(Святослав), самый храбрый, погибает от кочевых хищников...".1 А это достойно
удивления. Разве не знал он, крупнейший историк России, о том, что всю свою
жизнь Святослав провел в бессмысленных войнах с Византией, с болгарами, что он
недолюбливал Киев и был убит печенегами лишь потому, что на стороне понапрасну
истощил свою военную силу. Обрати он ее на защиту Киевской Руси - и все кочевое
окружение платило бы дань этому действительно незаурядному князю.
Приведенный пример, к сожалению,
не единичный в "Чтениях" Соловьева. В подобном же духе выдержаны в них и многие
другие доводы автора. Так, по поводу самого появления личности Петра в русской
истории Соловьев говорит: "...народ поднялся и собрался в дорогу, но кого-то
ждали, ждали вождя, вождь явился".2
Эта мысль интересна не
метафизической риторикой, а чисто психологически: она показывает, что может
позволить себе серьезный ученый, когда речь заходит об интересах дорогого ему
дела.
Петр I для Соловьева - мудрый
государственный деятель. Он создал думу и предоставил ей право самостоятельно
решать государственные дела. А что это носило характер гротеска, когда за
каждое неудачное, на взгляд царя, дело на голову его автора могла обрушиться
палка - об этом в "Чтениях" ни слова. Документально установлено, что Петр
приказывал, чтобы советники собственноручно подписывали свои мнения, "ибо этим
дурость всякого будет видна". Выходит, что царь ничего умного от них и не ждал.
И видимо не даром А.С.Пушкин, в целом симпатизировавший Петру, о его эпохе тем
не менее выразился так: "Все дрожало, все безмолвно повиновалось".
Петр переносит столицу на самую
границу государства. По какой причине? Согласно Соловьеву, она заключается в
том, что при обширности территории и малочисленности населения трудно все
обозревать с одного места. И как отдельный человек меняет в подобном случае
точку наблюдения, так происходит и со столицей государства. Но почему столицу
строят на болоте? - А "...чем сильнее упреки, делаемые совершенно несправедливо
Петру за выбор места для столицы, тем яснее для историка необходимость
явления"; "кроме того, сподвижники Петра были крепкие ребята, и нечего их
винить в том, что не учли они хилости потомков!3
Однако посмотрим, что говорят о
Петре другие, те, кто не склонен слепо отстаивать безусловную правоту его
реформ. Князь М.М.Щербатов, историк времен Екатерины II, писал, что при Петре
мы, русские, "...исполинскими шагами шествовали к поправлению наших внешностей.
Но тогда же
гораздо с вящей скоростью бежали к повреждению наших нравов".4
Герцен видел в Петре гения-палача, "для которого государство было все, а
человек ничего".
В спорах о Петре
сторонники его обычно выдвигают такой вопрос: Если Петр плох, то что же, России
следовало оставаться невежественной и отсталой, какой она была до него?
Противники отвечают на это, что раньше все было самобытно, национально и ничего
не надо было менять. Но суть дела не раскрывается ни в одной из этих позиций.
Искать ее следует через понимание того, что неприятие "сугубого" реформирования
Петра не означает implicite одобрения всего, что было до него. Более того, сам феномен
петровской эпохи возник не вопреки, а по причине предшествующего ему развития
России.
С укреплением
Московского царства абсолютная монархия все больше отходит от водительства Духа
народа и подпадает влиянию его люциферического двойника. Поэтому всё
приобретает неподвижный характер, повсюду начинает преобладать цепляние за
старину, нежелание каких-либо новшеств. Но по законам духовного развития
люциферический импульс своим действием вызывает противоудар ариманических сил,
которые стремятся бурно, рывком перебросить развитие в будущее, предвосхитить
это будущее раньше времени и не дать ему осуществиться правомерным образом,
лишить его способности дать необходимые для правильного развития человечества
плоды. Именно такое выступление ариманических сил на арене русской истории мы и
видим в деятельности Петра.5 Она импонирует нам, потому что многое в
ней по своему характеру напоминает наши времена и потому понятно без труда. Но
понять ее необходимо с точки зрения тех условий, в которых находилась Россия в
конце XVII - начале XVIII веков, будучи сильно задержанной в развитии
предшествующими веками.
Привлечение
духовнонаучной аргументации может, из-за ее новизны, кому-то затруднить
понимание. Однако в данном случае новой является лишь терминология, что же
касается сути затронутой проблемы, то, случалось, ее понимали люди и не
обладавшие духовнонаучными познаниями. Так, например, исчерпывающую характеристику
эпохи Петра дает Руссо. В своем "Общественном договоре" он пишет: "Петр Великий
был гением подражания; он не был одарен настоящим гением, создающим все из
ничего. Кое-что из того, что он сделал, было хорошо, большая часть была ни к
чему. Он видел, что народ его находится в варварском состоянии, но не понимал,
что он не созрел для политического благоустройства ...он помешал им (русским)
сделаться когда-нибудь тем, чем они могли бы быть, убедив их, что они уже стали
тем, чем они не были. Так воспитывает своего питомца наставник-француз, который
добивается, чтобы он поражал всех в детстве, и мало заботится о том, что из
него ничего не выйдет в зрелом возрасте. Российская империя пожелает поработить
Европу, и сама будет покорена".6
Так благодаря
силе собственного интеллекта и дару наблюдательности Руссо фактически угадал
саму "стилистику" действия ариманических сил, когда они врываются в социальную
жизнь. Действительно, они тогда делают именно то, что и без них уже стоит в
плане развития, только стараются реализовать это раньше времени. Таков метод их
вмешательства в исторический процесс. Яркой его иллюстрацией может служить
деятельность арабской академии Гондишапур, где уже в VII в. по Рождеству
Христову науки и искусства, так сказать, расцветали цветом нашей эпохи - эпохи
души сознательной. Подобный же метод узнаем мы и в петровском реформировании
русской жизни. С его помощью ариманические существа попытались истощить раньше
времени духовные силы русской народности, чтобы сделать ее неспособной на
творчество, когда придет ее культурная эпоха.
Россия в XVII-XVIII веках,
несомненно, нуждалась в просвещении, в социальных реформах; а до того ей вообще
было незачем (вопреки утверждению С.М.Соловьева), даже в интересах единого государства,
учреждать у себя рабство. Но очевидно и другое: чтобы, говоря образно,
причесать голову, незачем снимать ее с плеч; чтобы показать дальний вид, не
выкручивают руки и не вздергивают на дыбу. Деяния же Петра сплошь и рядом
напоминают ухватки Мефистофеля, полагавшего, что в интересах прогресса домик
Филемона и Бавкиды нужно просто спалить, и лучше - вместе с обитателями.
Ведь если из конкретных условий
жизни того времени взглянуть на ту цену, которую пришлось уплатить за деяния
Петра, то это не идет в сравнение даже с нашествием Наполеона. Строительство
Петербурга поглотило больше здоровых мужских жизней, чем Аустерлиц и Бородино
вместе взятые. Огромные производительные силы были отняты у хозяйства и
включены в армию. С 1705 по 1711 год русская армия увеличилась с 58 до 200
тысяч человек; брали в нее в возрасте от 12 до 20 лет. По переписи 1710 г. в
стране числилось 758 тысяч крестьянских и посадских дворов, т.е. хозяйств, в
которых обрабатывалась земля, выращивался скот, развивались ремесла. При переписи
1716 года не досчитались трети из них!7 С такой ужасающей быстротой
разорялось и сокращалось население.
Поэтому, если не обольщаться
мыслью, что натворил это все-таки свой царь, то можно прийти к заключению, что
в Петре и Наполеоне действовала одна и та же ариманическая сила, стремившаяся
помешать России правильным образом готовиться к своей грядущей духовной миссии.
Разница состоит лишь в том, что однажды эта сила вторгается изнутри, другой раз
- извне. Проницательный Гете разглядел ее единую суть, указав на присутствие
"демонического" в характере Наполеона и Петра I.
Мы не исключаем мысли, что сначала
Петр был другим, и намерения у него были не те, что позже. Он изучал ремесла,
странствовал по Европе как простой подмастерье, посещал вольных каменщиков,
интересовался их тайными науками. Полное равнодушие к своему царскому сану,
большая подвижность любознательного ума, совершенно новый, не свойственный той
эпохе демократизм, даже что-то фаустовское характеризует юного Петра. И нечто
от всех этих черт он сохранял всю жизнь; этим-то и обусловлена наша симпатия к
нему. Но по мере того, как он входил в полноту самодержавной власти, все более
проявлялась в нем воля ариманических властей. Это заметил декабрист А.В.Поджио.
Имея в виду Петра I, он писал, что правители, "...достигая некоторой степени
высоты, подчиняются законам какой-то новой для них формации и всем явлениям
процесса перерождения. Тут, теряя бывшую точку земной опоры, они отделяются от
человечества и, сближаясь с искомым божеством, поступают в его непосредственное
ведение. С той поры не ищите в них воли собственной; они действуют как
страдательные существа, по воле найденного ими себе бога. Они делаются
безответными и требуют слепой покорности и повиновения не к себе, а к тому
божеству, к которому они сопричастные.
С особой откровенностью правивший
в Петре недобрый дух-покровитель проявился в деле строительства Петербурга. С
каких позиций к этому вопросу ни подходи, всегда приходишь к
одному-единственному выводу, что "положение Петербурга непростительно" (Гете) и
в географическом, и в климатическом, и в политическом смысле. Ведь можно было
для "окна в Европу" построить укрепленный порт и вести через него торговлю, а
при надобности он служил бы военным целям. Но и тогда можно было бы выбрать
место повыше, посуше. Что же все-таки заставило Петра учредить столицу среди
карельских болот? Ведь было ясно, что в ней полностью сосредоточится как
государственная, так и духовно-культурная жизнь. Вряд ли сам Петр достаточно
ясно понимал, что стоит за его затеей. Он был лишь инструментом. Глубинный
смысл его поступка и ныне невозможно понять без помощи Духовной науки.
В лекциях, посвященных финскому
эпосу, Р.Штайнер говорит о влиянии земли и водной стихии на развитие, на конфигурацию
человеческого существа. Соотношение воды и суши на территории, занимаемой тем
или иным народом, носит не случайный характер. Так, например, тому
обстоятельству, что Англия окружена морями, обязана она развитием в среде ее
народа души сознательной. Континентальное положение России уберегает ее от
преждевременного овладения Самодухом. Но если представить себе, говорит
Р.Штайнер, что три восточных залива Балтийского моря простирались бы далеко на
юг, до Каспийского моря, тогда "...здесь жил бы народ мореплавателей, и этот
народ мореплавателей уже давно развил бы Самодух. Однако это было бы незрелое
состояние, это было бы не в свое время, преждевременно осуществленным
развитием".8
А теперь давайте обратимся к жизни
Петербурга, вечно перенасыщенного влагой, погруженного в туманы, затопляемого
наводнениями, и нам станет понятен замысел Аримана, перенесшего культурный
центр России в морскую стихию. Это должно было вызвать преждевременное явление
Самодуха в среде если не всего народа, то наиболее образованной его части,
сосредоточенной в столице. И так это и случилось в конце XIX - начале XX века.
Возникший тогда феномен культуры у одних получил название русского ренессанса,
у других - декаданса; речь о нем у нас пойдет в дальнейшем.
Наконец, мы должны рассмотреть то
деяние Петра, о котором уже упомянули в предыдущем очерке. Петр, как сказал
поэт, "в Европу прорубил окно", сделал Россию европейской державой. Значения
этого факта не понять, рассматривая его только внешне, политически или
экономически. Европа к началу XVIII в. представляла собой сложную систему,
пришедшую в результате самых разных потрясений: военных, социальных,
религиозных к некоему равновесию. Выступление на арене ее политической и
хозяйственной жизни нового государства с колоссальными природными и
человеческими ресурсами затронуло саму ее суть как представителя новой
культурной эпохи. И потому единственный способ понять историю России, в которую
она вступила с началом XVIII века, - это разобраться (хотя бы частично) в
природе глубинных сил и духовных импульсов, действующих в эпоху души
сознательной. Этим вопросом мы теперь и займемся.
Мы уже говорили, что в
предшествующие культурные эпохи их главный жизненный центр составляли Мистерии,
где наиболее подвинутые в развитии люди, посвященные, входили в связь с Богами
и от них получали импульсы для земного водительства народов. С переходом к
нашей культурной эпохе характер духовного водительства сильно изменился, и
древние Мистерии постепенно ушли в тень, а на их место встали новые,
розенкрейцерские Мистерии. Эти Мистерии существенно отличались от древних. В
них, например, сознавали, что человечеству предстоит пройти через трудный
период материальной культуры, если ему суждено обрести свободную волю. Духовное
водительство в таких условиях должно было стать иным. О том, как оно
подготовлялось, Р.Штайнер рассказал в 1907 г. французскому драматургу Эдуарду
Шюрэ, когда посетил его в Эльзасе. Сообщение Р.Штайнера позже было
опубликовано. Из него мы узнаем, что еще в начале XV в. Христиан Розенкрейц
отправился на Восток, чтобы найти связь между методами посвящения на Востоке и
на Западе. По возвращении в Европу им было окончательно основано то духовное
посвятительное течение, которое получило название Розенкрейцерства.
"Розенкрейцерство, - говорит Р.Штайнер, - должно было стать школой, хранящей
себя в строгой тайне, и готовить то, чему надлежало стать задачей эзотерики на
повороте времени от XIX к XX столетию, когда к предварительному решению
некоторых проблем приблизится также и внешняя наука.
Среди этих проблем Христиан
Розенкрейц назвал следующие:
1) открытие спектрального анализа,
с помощью которого удалось бы выявить материальное строение Вселенной;
2)
соединение учения об эволюции материального мира с наукой об органическом;
3)
открытие наличия иных, по сравнению с обычным, состояний сознания...
Лишь после того, как это познание
созрело бы в науке материального (мира), надлежало опубликовать открыто
некоторые принципы розенкрейцерского тайноведения".9
Совершенно в духе
розенкрейцерского водительства в конце XIX века в Европу пришла восточная
теософия и здесь, в лоне Антропософии, была приведена в связь с Импульсом
Христа, составляющим центральное ядро розенкрейцерско-антропософского пути
посвящения. Этот процесс Р.Штайнер в цитируемых нами сообщениях представил в
виде схемы:
Таков был план розенкрейцерского
водительства на ближайшие столетия. В соответствии с ним, из источников
истинного розенкрейцерства (а существовали и его фальсификации) было
инспирировано то, что внешней истории известно как эпоха просвещения.
Практическим инструментом ее развития послужили ранние масонские ложи,
происшедшие также из розенкрейцерства.
Попутно необходимо заметить, что в
целом духовная конфигурация европейской культуры слишком сложна, чтобы можно
было взять на себя задачу осветить ее со всех сторон. Поэтому мы выделяем лишь
самое главное; но и об этом не сказать в двух словах, ибо как раз главное не
может быть понято вне знания о глубокой преемственности древних традиций
эзотеризма. Так, говоря о розенкрейцерстве, нужно иметь в виду, что оно
подготовлялось деятельностью еще ап. Павла, который, кроме проповеди
Христианства, основывал эзотерические школы (выходцем из такой школы был Дионисий
Ареопагит). Далее, предшественниками Розенкрейцерства следует считать такие
духовные течения древности, как манихейство, течение терапевтов, а в более
поздние времена - оккультные ордена иоаннитов, тамплиеров. Самым главным в
Розенкрейцерстве является его тесная связь с Мистериями Св. Грааля.
Неоднозначным было сначала и
масонство. С одной стороны, оно "является продолжением древнейших тайных союзов
и братств", берущих свое начало от первых всходов четвертой, греко-латинской
культуры,10 с другой - оно впитало в себя то, что слагалось в
средневековой Европе как профессиональные объединения. В то же время,
масонство, стоящее у истоков эпохи Просвещения, инспирировано
Розенкрейцерством, из него почерпнуло оно свою Храмовую легенду, свои здоровые
идеалы. Однако в ходе времени судьбы Розенкрейцерства и масонства разошлись.
Ложа Розенкрейцеров (число ее членов никогда не превышало 12 человек) до конца
сохранила верность идеалам эзотерического Христианства. Масонские же ложи
претерпели полное видоизменение и отошли от первоначальных идеалов, что было по сути равнозначно предательству
Мистерий. И следует по этому поводу сказать, что в древности событие подобного
рода явилось причиной гибели цивилизации Атлантиды, а в более близкие к нам
времена - падения Римской империи; теперь же есть все основания предполагать,
что грехопадение масонства в неотдаленном будущем приведет к крушению всю
современную цивилизацию.
На протяжении XVII, XVIII веков
масонство мало-помалу утратило эзотерическое знание, и все в нем свелось к
абстрактной символике, которую теперь уже никто не понимает. Одновременно к
духовным исканиям масонов стали все больше примешиваться национальные,
политические, партийные интересы. Ордена, ложи, партии - это самый реальный
генезис современной большой (мировой) политики. Лишь наивный человек не желает
видеть у нее обширных оккультных кулис.
В течение XVIII в. масонство
консолидировалось в пределах Британской империи, и политика стала играть в нем
доминирующую роль. При этом политические цели преследовались не в самой
Британии, а в других странах, где на службу им были поставлены местные
национальные ложи, которые основывались из Англии (а не наоборот). Так,
английскими масонами в 1725 г. была основана первая высокоступенная ложа в
Париже, затем, опять же из Англии, последовали основания лож: в Мадриде - в
1728 г., в Москве - в 1731 г., в Женеве - в 1735 г., в Лиссабоне - в 1736 г., в
Гамбурге - в 1737 г. и т. д.
Исключительно большую роль в
искажении истинной сути и назначения масонства сыграли иезуиты. От момента
своего возникновения их орден находится в полном противоречии с идеалами
эзотерического Христианства, с замыслами розенкрейцерского водительства
современной культурной эпохой. Рудольф Штайнер так описывает главное различие
между Розенкрейцерством и иезуитизмом: "Инициация розенкрейцеров была
духоинициацией, она никогда не была волеинициацией, поскольку воля человека
почиталась как святыня, пребывающая во внутреннейшем существе души".
Воздействие на волю в ней происходило только косвенно, через дух, познание.
"Инициация иезуитов повсюду стремится к прямому действию на волю, повсюду
желает прямо и непосредственно захватить волю".
Иезуитизм вступил в ожесточенную
борьбу с инспирированным розенкрейцерами масонством. В ходе этой борьбы духовно
подвинутые иезуиты стали проникать в ложи. Р.Штайнер рассказывает, что там они,
будучи объединены между собой и часто превосходя масонов своей
целеустремленностью, заняли командное положение и "учредили высокие степени
масонства"; при этом три первые ступени были оставлены без изменения, однако,
теперь, когда масоны, пройдя их, поднимаются выше, то прежний опыт "...целиком
исчезает благодаря тому, что им прививается на более высоких ступенях. Ужасный
туман расстилается над тем, что можно было почувствовать на трех нижних
ступенях".12
Может возникнуть вопрос: так к
чему же в результате всего этого пришли масоны и иезуиты? Имеет ли смысл и
дальше говорить о борьбе между ними? За ответом на этот вопрос мы опять
обратимся к сообщениям Р.Штайнера. Он говорит:
"...духовное течение, стремящееся удержать человеческую душу вдали от
сверхчувственного, увековечить такое ее состояние ...это иезуитизм, духовное
течение, имеющее куда большее влияние, чем обычно предполагают". Иезуитизм
действует с двух сторон: глубоко работает в самой науке, в естествознании, а с
другой стороны догматизирует всё то, к чему следует стремиться человеческому
познанию. "Нет иного внутреннего родства, подобного тому, которое существует
между современной наукой и американизмом, между современной наукой и
иезуитизмом. Иезуитизм велик тем, что глубоко и значительно занимается
физической наукой. Иезуиты - крупные мыслители в сфере физически-чувственной
науки (т.е. в естествознании. - Авт.), т.к. иезуитизм считается с той
элементарной склонностью человеческой природы, которую человеку надлежит
преодолеть путем ориентации на духовный мир (как это происходит в Гетеанизме. -
Авт.), - со склонностью испытывать страх перед духовным. Он считается и с тем,
что этот страх можно некоторым образом социализировать, сказав человеку: ты не
можешь и не должен приближаться к духу; мы будем заведовать духом и подносить
его тебе правильным образом.*
* Как тут не вспомнить "Великого инквизитора" Достоевского
Оба эти течения - американизм** и
иезуитизм - работают некоторым образом одно в другом; только не берите это
легко, но ищите во всем этом глубоко действующие импульсы человеческого
развития".13
** При этом нужно иметь в виду, что Англия постепенно исчезает в
пан-англо-американизме
Такова суть этого серьезнейшего
феномена. О ней ничего не говорит тот пестрый вздор, который часто
выплескивается на страницы печати. И когда Р.Штайнер советует искать в
указанных течениях глубокие импульсы развития нашей эпохи, то не следует
легкомысленно обходить это вниманием или впадать в односторонние суждения. В
Евангелиях сказано, что искушения должны прийти. Преодолевая их, души научаются
свободе в индивидуальном Я-сознании. Нельзя забывать и того, что у англоязычных
народов душа сознательная действует как инстинкт, а значит - эгоистически.
Все это заранее подготавливалось
духовным водительством. Духовным Иерархиям ничего не стоило бы устранить из
мира люциферические и ариманические импульсы, но тогда был бы нарушен великий
принцип свободы выбора, благодаря которому человечество идет к своему
предназначению - стать Иерархией, соединяющей в себе любовь и свободу. Служа
этой цели, розенкрейцеры всячески способствовали тому, чтобы не дать
цивилизации утонуть в трясине материализма, совсем миновать который было
нельзя, ибо не в отрыве от физической Земли, а через ее преображение одухотворенное
человечество поднимется к духовным высям. Поэтому соединение веры со знанием
составляет основное требование нашей эпохи. Но соединить их можно лишь в
процессе постепенного развития, а не рывком. Хорошо понимая это. Христиан
Розенкрейц еще перед французской революцией отстаивал тот взгляд, что "...люди
должны спокойным образом вестись от мировой культуры к истинно христианской
культуре. И хотя он рассматривал революцию как неизбежное следствие, но все же
предостерегал от нее.
Он, Христиан Розенкрейц, в
инкарнации XVIII века, как Страж внутреннейшей тайны Медного моря и Святого
Золотого треугольника,* предостерегал: человечество должно развиваться
медленно".14
* То есть как обладатель наивысшей ступени (градуса), которой
после него ни в одной ложе никто не занимал.
В продолжительной и трагической
борьбе сдавало масонство свои высокие спиритуальные позиции. С ее описанием мы
встречаемся в романе Жорж Санд "Графиня Рудольштадт". Из многих других
источников мы узнаем, что масонство в свое время разделилось на два рода, на
так называемое "голубое" и "красное"; в первом преобладали духовные искания, во
втором на первый план выдвигалась политика. Еще до середины XIX века имеет
смысл говорить о "голубых" ложах "Иоаннитов", которых было три. В свое время им
противостала более высоко градуированная ложа "Шотландский ритуал", служившая
политическим целям. За "Шотландским ритуалом" проступила еще более влиятельная
"Серая ложа", или ложа "серых людей". "Влиятельность" при этом следует понимать
в политическом смысле. Постепенно в борьбе между спиритуальным и политическим
отношением к оккультному верх одержали "радикалы". Уже к концу XIX в. ложи
слились, и то, что прежде в них было "голубым", "красным", "серым",
"оранжевым", приобрело единую "окраску".
Так протекала борьба за духовное
водительство человечества. Розенкрейцерство не было в ней побеждено, но
пережило значительную метаморфозу. Теперь оно действует в мире как Антропософия
с ее духовным знанием о реинкарнаций и карме, с ее импульсами духовного
обновления религиозной, научной и практической жизни людей. Что же касается
прошлых столетий, то там, как мы говорили, одной из главных забот
розенкрейцеров было уберечь мир от ариманических намерений бурно и хаотически
вносить в развитие преждевременные импульсы. Борьба в основном шла на
европейской арене. И когда с началом XVIII в. Россия активно стала входить во
все европейские отношения, то при этом, естественно, она была вовлечена и во
все перипетии указанной борьбы. И это мы имели в виду, когда говорили об особом
значении того факта, что, начиная с Петра I, Россия становится актуальной силой
в европейской политике.
Вступить, как теперь говорят, в
европейскую семью народов, означает приобщиться не только к просвещению и
науке, но и к той острой конкурентной борьбе, большая часть которой, словно у
айсберга, скрыта под поверхностью внешних отношений. Пока русские бояре ходили
в кафтанах с рукавами до земли, а Иван IV истреблял с корнем удельную ересь,
никому в Европе не было до этого особого дела, кроме, разве, Литвы и остзейских
немцев. Но Петр I сумел основательно задеть интересы шведов и османов, а
интенсивным строительством флота на Балтике - и англичан. В результате довольно
скоро в России проросли все элементы тайной мировой борьбы. Однако не следует
смотреть на это как на некое абсолютное зло, пришедшее в добродетельную Россию.
Это мировая борьба за духовное
водительство, и в ней сталкиваются и добрые, и злые силы. Петр приобщил к ней
Россию, не особенно понимая смысл происходящего. По этой
причине Россия сразу же оказалась не только в невыгодном, но даже в опасном
положении. Проходит чуть больше полу столетия, и дело заходит так далеко, что
Екатерина II оказывается чуть ли не единственной правительницей, спасающей
орден иезуитов, подвергшийся запрету в Европе, а к концу своего правления она
же закрывает в России масонские ложи. Долгое время Екатерина относилась к
масонам доброжелательно, но когда во Франции вспыхнула революция,
подготовленная в ложах, ее отношение к ним резко изменилось. При этом она не
стала делать никаких различий, и первый, кто пострадал от немилости
императрицы, менее всего заслуживал этого. Мы имеем в виду Николая Ивановича
Новикова (1744-1818), человека с глубокими и искренними духовными исканиями,
немало потрудившегося на пользу распространения в России просвещения. По
приказу Екатерины он был посажен в Шлиссельбургскую крепость. Из материалов его
допроса встает картина расстановки на русской почве сил, всецело европейских по
своему характеру и происхождению и в Европе ведущих между собой главную борьбу,
в которой Россия играет роль "провинциальной" державы.
Н.И.Новиков не видел абсолютно
ничего преступного в своей принадлежности к масонству и потому открыто
рассказывал и о себе, и о ложах. Кроме того, он, несомненно, был уверен в том,
что известное ему известно и правительству. В ответ на поставленные ему
следователем вопросы, он писал: " В масонство так называемое английское вступил
я ... в 1775 г. ... Я мог осведомиться и узнать, что главная ложа управляется
его превосходительством Ив. Перф. Елагиным,* в которой немалое число знатнейших
особ в государстве членами, и что все меньшие ложи зависят от сей ложи, и что
масонство получено из Англии...".15
* И.П. Елагин занимал крупные государственные должности, был членом
Российской Академии и известен, кроме того, как литератор, историк. Им написан
трактат "Опыт повествования о России".
Далее Новиков говорит о
неудовлетворенности, которую испытывал от туманного толкования "иероглифов и
аллегории", и от того, что "...хотя и делались изъяснения по градусам на
нравственность и самопознание, но они были весьма недостаточны и натянуты...".
Ходил среди масонов слух о существовании "...истинных розенкрейцеров ... у них
скрываются великие таинства; что учение их просто и клонится к познанию Бога,
натуры и себя; что много ложных обществ называющихся сим именем ... счастлив
тот, кто найдет истинных". Новикову стало известно, что нечто близкое к
розенкрейцерству привез в Россию из Берлина барон Рейхель. Он идет к нему и "со
слезами" просит разъяснить, как отличить ложное масонство от истинного. Рейхель
такое разъяснение дает. "Всякое масонство, - говорит он, "также со слезами", -
имеющее политические виды, есть ложное. ... Но ежели увидишь, что через
самопознание, строгое исправление самого себя, по стезям христианского
вероучения в строгом смысле нераздельно ведущее; чужды всяких политических
видов и союзов, пьянственных пиршеств, развратности нравов членов его; где
говорят о вольности такой между масонами, чтобы не быть покорену страстям и
порокам, но владеть оными, такое масонство или уже есть истинное,
или ведет к сысканию и получению истинного, что истинное масонство есть, что
оно весьма малочисленно, что они не стараются нахватывать членов, что они по
причине великого в сии времена распространения ложных масонов весьма скрытны и
пребывают в тишине; ложные масоны всего этого не любят".
В рассказе Новикова речь также
идет об иллюминатах. Этот орден был создан иезуитами специально для того, чтобы
проникать в ряды масонов и разрушать их изнутри. Он отличался острой
политической направленностью и имел целью борьбу не только против монархий, но
и против церкви, чему не следует удивляться, думая, будто иезуитизм - явление
чисто клерикальное. Новиков говорит об иллюминатах, что они "...суть истинные и
злейшие враги истинного масонского ордена ...желают и стараются совсем разорить
истинное масонство и на развалинах его утвердиться ... стараются везде
втираться во все ложи...".*
* Интересны и другие детали в допросе Н.И.Новикова. Он, например,
старается объяснить и доказать, что их ложа занималась в основном духовными
упражнениями, избегала всяких связей с иллюминатами, и при этом не понимает,
что это-то как раз и привело его к заключению в крепость. Примкни он к
какому-нибудь стрикт-обсерванту или открой двери тем же иллюминатам - и другой
была бы его судьба. Не политически, а духовно стал опасен Новиков и его
ближайшие друзья. Следователь мямлит свои вопросы: зачем распространяли
мистическую литературу? сколько и где ее печатали? где хранили? При этом он,
как черт ладана, боится произносить имя Сен-Мартена, изданием которого
занималась новиковская типография. Казалось бы, если дело действительно идет об
опасности для государства, то и спрашивать бы Новикова главным образом о том,
что он знает о политических намерениях лож. Но все сказанное им об этом падает,
словно в пустоту. К такой информации следователь глух, ибо знает в этом вопросе
больше Новикова. Один раз он, правда, спохватывается, что такое поведение
становится уж очень красноречивым, и в конце допроса, уже не к месту,
вставляет в вашем сборище есть иллюминаты. Но тут же снова перебрасывается на
мистические книги: сколько их, под какими названиями печатались, где "они оные
есть" и проч.
Таким образом, мы видим, что в
XVIII веке Россия становится причастной всем формам духовной и политической
борьбы, происходившей в Европе. Но при этом она обладает одним существенным и,
можно сказать, непростительным недостатком: ее сословная и интеллектуальная
элита находится в том незрелом состоянии, когда не может быть и речи о какой-либо
способности разбираться в идущих извне сложных влияниях, тем более -
противостоять им. Во всем господствует упрощенная одномерность суждений и самый
непосредственный эгоизм, вторгающийся в дела любой степени государственной
важности. При этом Россия ведет завоевательную политику и превращается в некое
пугало для ведущих европейских держав.
Еще посланник Петра I Украинцев
писал ему из Константинополя, куда явился на военном корабле: "Послы английский
и голландский во всем держат крепко турецкую сторону ... завидуют, ненавидят
то, что у тебя завелось корабельное строение ... думают, что от этого будет им
в их морской торговле помешка". Принято умиляться подобным задором "птенцов
гнезда Петрова" и не видеть огромной опасности, что возникла из перенесения "потешных"
замашек юного царя в мировую политику. Но в послепетровские времена происходит
отлив, ослабление ариманического натиска, и добрый Дух-Покровитель России
пытается привести ее в уравновешенное отношение к Европе;
однако за кулисами внешней политики с тех пор уже никогда не прекращается рост
английского влияния на русскую жизнь. Стоит ли говорить о том, сколь большую
роль в этом деле было способно играть английское масонство, получавшее в России
все большее распространение.
Каким бы беспорядочным и грубым ни
было вмешательство Петра в развитие России, оно подтолкнуло известную часть
общества к развитию самосознания. А поскольку духовные искания были знамением
времени, то не стоит удивляться тому энтузиазму, с каким русские образованные
люди устремились в ложи с их мистическими тайнами, новым отношением к человеку.
Не могла не привлекать и их революционная направленность - духовно проснувшийся
к индивидуальной жизни человек уже мало годится на роль подданного абсолютной
монархии. Наконец, масонство в своей лучшей части не отвлеченно, по-церковному,
а на деле, в условиях самой непосредственной общественной жизни призывало к
реализации идеалов христианской морали. Не всякий был способен разобраться при
этом в тонкостях политической игры и идеологии, которые были тут ко всему
примешаны. Этого не смогли сделать даже французы, что ж говорить о русских.
Они, можно сказать, как "кур в ощип" попадали сразу во все сложные, часто
мутные потоки, протекавшие через ложи, и благо было лишь тем, кому
посчастливилось встретить добрых наставников, как это случилось с Новиковым,
С.М.Гамалея, И.В.Лопухиным - истинными русскими духоискателями XVIII в., в
жизни которых были такие люди, как профессор Шварц, барон Рейхель.
Не без влияния иезуитов решилась
Екатерина II поприжать масонов. Но в то время иезуиты были в Европе почти всюду
под запретом и потому не решались особенно активно проявлять себя в приютившей
их России. Однако совсем не показывать себя они тоже не хотели. Поэтому было
выбрано одно, наиболее антипатичное им звено - масонско-розенкрейцерское, и по
нему нанесен удар.
В конце XVIII века в развитии
масонства возник резкий перелом. Ранее таившийся политический радикализм
открыто заявил о себе на внешнем социальном плане, и прежде всего - во
французской революции. В нашем изложении мы не касаемся большой теории
революций. Об этом написаны горы книг рго и соtга.
В нашу задачу входит лишь показать характер тех сил, которые действовали под
поверхностью внешних событий, но оказали решающее влияние на ход русской
истории. Этим силам нельзя дать однозначной оценки, ибо основу их действия, как
мы уже сказали, составляет та обостренная борьба добра со злом, которая есть
главный двигатель развития человечества к свободе в условиях эпохи души
сознательной. В этой борьбе задача добрых сил заключается не в победе над злом,
а в претворении зла в добро. Поэтому всякая оценка здесь относительна. Однако
это не значит, что следует вовсе отказаться от оценок. Нет, современному человеку
надлежит судить о жизни, только система его оценок должна стать подвижной.
Нужно научиться видеть события с разных сторон и при этом не отвлекаться
частностями, а для этого требуется всеохватное
недогматизированное познание, восходящее от внешней фактологии до стоящих за
нею профеноменов.
Французская революция поставила
перед русским обществом устрашающий вопрос: что станется с Россией? Постигнет
ли и ее судьба Франции, или же ей уготован другой путь?* Мнения разделились.
Выделилась небольшая часть сторонников французской революции, но большинство,
даже те, которые уже стали активными противниками монархии, были напуганы и
шокированы ужасами якобинского террора. Так возникла некая противотенденция,
желание удержать Россию от вхождения в опасный фарватер. В этом намерении
отчетливо проявилось действие сверхчувственного доброго водительства. Среди
прочего, это выразилось в том, что на самой вершине государственной власти в
России вдруг появляются люди совсем особого рода, каких не было ни до, ни после
них.
* Вопрос этот, естественно, встал и перед другими народами Европы
И здесь мы подходим к личности
императора Павла I. В истории дома Романовых он занимает совершенно особое
место. Скоро уже два столетия, как его на все лады бранят и монархисты, и
социалисты. Главная характеристика Павла, о которой знает всякий школьник, та,
что он был ненормальный. Вполне понятно, если в подобном духе высказывается о
русском императоре, правившем чуть не двести лет тому назад, наследник
революционных традиций, но что остается думать, когда в книге, выдержанной в
самых верноподданнейших тонах, читаешь о Павле следующее (1912 г.): "Не
злодейское средство, пущенное в ход для того, чтобы избавиться от правления
видимо больного и невменяемого Государя, вызвало эту бурю восторгов (по случаю
убийства). Радоваться гибели признанного и коронованного Монарха не в духе
русского народа! Но все легко вздохнули при мысли, что наступил предел всем
бессмысленным, стеснительным мерам, всем до невменяемости диким и непонятным
распоряжениям... не знакомые между собою люди обнимались и поздравляли друг
друга, как в день Светлого Воскресенья! (выделено нами. - Авт.) А двумя
страницами ниже автор продолжает: "В спальню Его ворвалась ватага пьяных людей,
с кулаками набросившихся на свою беззащитную жертву... Они зверски, бессмысленно,
бесчеловечно искалечили молившего о пощаде Императора, топтали его ногами ..".16
Прочтя такое, невольно думаешь, а не страдает ли сам автор тем недугом, который
он приписывает "коронованному Монарху"?
А вот что говорит о Павле
прогрессивный психиатр П.И.Ковалевский, поставившый ему диагноз в начале нашего
века. По его мнению, император принадлежал к "дегенератам второй степени с
наклонностями к переходу в душевную болезнь в форме бреда преследования".
Насколько этот "бред преследования" имел под собой реальную основу, выяснилось
11 марта 1801 г. Художник А.Бенуа изучал портрет Павла, который, по его мнению,
стоит "один целого исследования" и неопровержимо доказывает, что император был
безумен.
Что ж, не станем спорить ни с
художником, ни с психиатром, а посмотрим на портрет сами. Он принадлежит кисти
В.Л.Боровиковского.
Для полноты впечатления возьмем
еще детский портрет Павла кисти Ф.С.Рокотова.*
* Первый из них хранится в картинной галерее г Сумы, на Украине,
второй в музее Ярославля
Нужно ли тут что-нибудь
комментировать? Лишь большая предвзятость может помешать увидеть самое
очевидное - совершенную ясность ума у того, кто изображен на этих портретах.
Взрослый Павел довольно скептически и даже иронично относился к внешним
атрибутам императорской власти. Определенный юмор был присущ ему и в отношении
к самому себе, что мы покажем позже на одном примере. Но об этом
свидетельствует и портрет кисти Боровиковского. Павел явно с иронией смотрит на
затею увековечить его лик для потомков. Что же касается портрета, написанного
Рокотовым, ничего другого, кроме веселого, подвижного нрава и свободного
развития ума у изображенного на нем ребенка, портрет этот нам не передает.
Критика императора Павла имеет два
главных свойства: она активно недоброжелательна и до крайности странна. А как
обстоит дело с фактами? В.О.Ключевский утверждает: "Больше анекдота мы ничего
не знаем об этом царствовании". Но анекдотов существует много, и у них
необычайно долгая жизнь. Два самых популярных из них - следующие. В одном
рассказывается, будто бы Павел скомандовал не понравившемуся ему на параде
полку: "Марш в Сибирь!", - и полк прямо с парада так туда и зашагал. В другом
говорится, что Павел однажды подписал разом три противоречащих один другому
указа. Но, увы, все это действительно анекдоты и не более того.17 Но
наравне с ними имеются и вполне серьезные отзывы о Павле. Особенно интересны те
из них, которые сделаны людьми не близкими или даже враждебными императору. Генерал
А.П.Ермолов, впоследствии герой Отечественной войны, отбывший при Павле 2 года
в заключении, говорил, что у "покойного императора были великие черты и
исторический его характер еще не определен у нас". Другой современник Павла,
писатель А.Коцебу, побывавший по его милости в сибирской ссылке, писал: "Из 36
миллионов русских по крайней мере 33 миллиона имели повод благословлять
императора, хотя и не все сознавали это". То же самое утверждает и декабрист
М.А.Фонвизин: "Простой народ даже любил Павла".
От генерала Бенигсена,
непосредственного участника цареубийства, мы узнаем, что "...император никогда
не оказывал несправедливости солдату и привязывал его к себе". Поэтому заговорщики
во время переворота особенно боялись солдат. "Успей Павел спастись бегством, -
свидетельствует княжна Ливен, - и покажись он войскам, солдаты бы его сохранили
и спасли".
Ну, а каковы были дела Павла? Вот
некоторые из них. Манифестом от 5 апреля 1797 года он ограничил барщину тремя
днями в неделю. При этом в воскресенье все непременно должны были отдыхать.
Историк Н.К.Шильдер оценил впоследствии этот манифест "как попытку подготовить
низший класс нации к состоянию менее рабскому". За крестьянами числилась
недоимка в 7 млн. рублей (цифра по тем временам астрономическая). Павел ее
снял. Было разрешено старообрядцам иметь свои церкви и священников. Купеческое
сословие получило возможность выбирать своих представителей на весьма высокие
государственные должности. Этой привилегией оно пользовалось только при Павле.
За четыре года Павлова правления в
солдатских школах было выучено 64 тысячи человек, была открыта
медико-хирургическая академия, университет в Дерпте, институт для женщин. И
вообще, как пишет свидетель цареубийства Н.А.Саблуков, "...земледелие,
промышленность, торговля, искусство, науки имели в нем (Павле) надежного
покровителя". Наконец, в польском вопросе деятельности Павла дает
характеристику поляк, князь Адам Черторыйский. Он говорит: "Царствование Павла
еще до сих пор в наших местах (в Польше) называют временем, когда
злоупотребления, несправедливости, притеснения в мелочах, необходимо
сопровождающие всякое чужеземное владычество, давали себя чувствовать всего
слабее".
Но наравне со всем этим было,
разумеется, и другое. Павел отличался строгостью в отношении к дворянству, к
офицерам и за это даже был заподозрен в "якобинстве" и "санкюлотстве".
Мы не задаемся целью создать
идеальный образ Павла. Нас интересует реальный человек, и как таковой Павел I
не только не обнаруживает никаких следов душевного расстройства, но, напротив,
во всех своих действиях проявляет незаурядный ум, проницательность и
беспримерный в среде монархов демократизм.
Павел загадочен - это несомненно.
И чтобы его понять, необходимо обратиться непосредственно к его личности. Во
время путешествия с молодой женой по Европе, когда была еще жива Екатерина II,
Павла прозвали "российским Гамлетом"; позже Наполеон увидел в нем "русского
Дон-Кихота". В век филистерства и "глубоконаучной обоснованности" небезопасно
получать такие прозвища. Это доказывает,
например, совершенно плоское замечание Герцена, что "...Павел явил собой
отвратительное и смехотворное зрелище коронованного Дон-Кихота". Согласиться с
этим высказыванием равнозначно признанию правоты, скажем, общества Фамусова в
его отношении к Чацкому - литературному выражению русского Гамлета. Пришлось бы
тогда и в шекспировской драме принять сторону датского двора. Ведь это в высшей
степени симптоматично, что Павла причислили именно к этому ряду героев, которых
окружающее их общество объявляет сумасшедшими.
Впечатление, которое Павел
производил на современников, показывает нам, что в нем был реально явлен тип
личности нового времени, профеноменом которой является фаустовская душа.
Фаустовская душа живет и в Гамлете, и в Дон-Кихоте, и в Чацком. Но откуда бы ей
взяться в литературе, если бы не было ее прообразов в жизни?
Было бы ошибочным идеализировать
фаустовскую душу, ибо она сильна как раз своими противоречиями. Но что в ней
притягательно - это неустанный и глубоко честный поиск истинных основ жизни,
назначения человека. В своем окружении она с неизбежностью, так сказать,
персона non grata, ибо является его антиподом по той причине, что принцип
"остановись, мгновенье", которым живет это окружение, хуже смерти для
фаустовской души.
Павла отличало рыцарское
благородство, неведомое при развращенном дворе Екатерины II. Под честное слово
не сражаться впредь против России он отпускает на свободу Костюшко. Его ум не
скован привычными догматами и всегда ищет решений, сообразных действительности,
но именно это многие объявляют чудачеством, странностью или даже безумием. Вот
образчик этого "безумия". Вместо того, чтобы истреблять народы в бессмысленной
войне, Павел предложил Наполеону решить дело их личным поединком.* Было,
конечно, ясно, что предложение - чистая условность. Но можно ли представить
себе шаг, с большей очевидностью разоблачающий всю бессмысленность воин? Только
к концу XX века подобные идеи стали приходить на ум борцам за мир. И никто не
находит их безумными или смешными.
* Наполеон ответил на вызов отказом, но отнесся к нему с
уважением.
Павел вовсе не был наивным и
хорошо понимал свое окружение и свою эпоху. Он знал, что порой, чтобы
достучаться до ее самосознания, требуются сильные средства. Принципом же его
действий, как он писал об этом К.И.Сакену, было: "...j'aimê mieux êtr haï en faisant, bien, qu'aimé en faisant mal" (письмо от 4
февраля 1777 г.) - "я предпочел бы быть ненавидимым, делая добро, чем любимым
всеми, творя зло".
Павел был противником всяких
монархических церемоний, собраний, благодарственных изъявлений. Авторитет
самодержца часто лишь мешал ему в повседневных делах, где его отличали простота
и естественность.* Характерен в этой связи один случай из его жизни. В
гарнизоне Михайловского замка служил уже упомянутый нами офицер
Н.А.Саблуков. Он обладал
художническими способностями и однажды, увидев на дереве нарост, чем-то
напомнивший ему облик Павла, сделал с него стилизованный рисунок. Получился
шарж на императора. Офицерам он понравился, они стали просить Саблукова сделать
для них копии. Не смея отказать товарищам, тот наделал их не менее сорока штук.
Но вот однажды, дежуря в замке, Саблуков, дабы скоротать время, стал
срисовывать бюст Генриха IV и так увлекся своей работой, что не заметил, как
сзади подошел император. Взглянув на рисунок, Павел похвально отозвался о нем,
а потом спросил: - А не делали ли вы когда-нибудь мой портрет? Саблуков храбро
ответил: - Много раз, Ваше величество!
* Но совсем иначе смотрели на это сами подданые. Павлу, например,
требовалось поправить нерадивого офицера, при этом он иногда сам показывал, как
следует обращаться с оружием. Окружающие же видели лишь одно: перед ними
император. Если бы Павлу довелось править лет 30, может быть, ему бы и удалось
так воспитать офицерство, что оно в первую очередь реагировало бы на суть дела;
четырех же лет было явно недостаточно.
"Государь, - рассказывает сам
Саблуков, - рассмеялся, взглянул на себя в зеркало и произнес: "Хорош для
портрета!".* Затем он дружески хлопнул меня по плечу и вернулся в свой кабинет,
смеясь от души".
* Нечто от этого восклицания и запечатлено на приведенном нами
портрете кисти Боровиковского.
Внешняя канва жизни Павла
удивительно напоминает судьбу шекспировского принца. Имея врожденные наклонности
к честности и благородству, Павел воспитывался в трудной, морально нездоровой
среде екатерининского двора. Уже в раннем детстве ему приходилось самому
отбирать книги для чтения, поскольку неразборчивые воспитатели нередко
приносили безнравственные сочинения. Рано узнал он о том, что его мать -
виновница смерти отца, а его убийца - ее фаворит. Во дворце это ни для кого не
было тайной. Даже тень предка являлась Павлу, только это был не отец, а прадед
- Петр I. Видение длилось около полутора часов. В нем Петр, вздыхая, произнес:
"Павел, бедный Павел, бедный князь!", а потом предостерег не делать моральных
ошибок.
Когда Павел стал старше, Екатерина
начала систематически и грубо третировать его, решив, в конце концов, лишить
трона. Однако несмотря на все это, как свидетельствуют современники, Павел (ив
этом его отличие от датского принца) "был полон жизни, остроумия и юмора".
Образованием Павла руководил граф
Н.И.Панин, отказавшийся от должности вице-канцлера ради воспитания великого
князя. Панин был весьма незаурядной личностью, обладавшей широким кругозором
поистине "государственного" человека.
Как свидетельствует его брат,
Панин работал над "Рассуждениями об истребившейся в России совсем всякой формы
государственного правления, и оттого о зыблемом состоянии как империи, так и
самих государей". В духе своих "рассуждении" Панин воспитывал и Павла. Особенно
значительный разговор между воспитателем и воспитанником состоялся за 2 дня до
смерти первого - 28 марта 1783 года. Находясь под большим впечатлением от
разговора, Павел вечером же наспех, с несвойственной ему небрежностью стиля,
набросал свои собственные "Рассуждения". В них, в частности, он пишет:
"Поверено было о неудобствах и злоупотреблениях нынешнего рода администрации
нашей, проходя разные части и сравнивая с таковою в других землях и опять с
обстоятельствами нашей, нашли за лучшее согласовать необходимо нужную монархическую екзекутивную
власть по обширности государства с преимуществом той вольности, которая нужна
каждому состоянию от предохранения себя от деспотизма самого государя или
частного чего-либо". И далее: "Станем стараться помочь и отвратить главнейшие
неудобства. Поможем сохранению свободы состояния каждого, заключая оную в
должные границы, и отвратим противное сему, когда деспотизм, поглощая все,
истребляет, наконец, и деспота самого. ...
Должно различать власть законодательную
и власть законы хранящую и их исполняющую. Законодательная может быть в руках
государя, но с согласия государства, а не инако, без чего обратится в
деспотизм. Законы хранящая должна быть в руках всей нации, а исполняющая в
руках под государем, предопределенным управлять государством. Отложим теперь
первые из сих разделений по вышесказанным причинам. Видно из сего, что вторая,
будучи связана с третиею, должна быть согласована с сею. Из сего следует, что
необходимо нужен свободный выбор членов собрания таковой власти, как и выборы
по наместничествам, которые конфирмуются государем, чем обе власти
споспешествуют к лутчему содействию, а как надобен залог твердости
постановления, обеспечивающий государство и государя, то и будет сим собрание
мужей, пекущихся о благе общем в сохранении законов...". При этом необходима
"особа, которая могла бы, присутствуя, соглашать объявлением воли законов и
намерений государя как разные мнения, так и направлять умы к известной цели.
Сия особа должна быть канцлер правосудия, министр государев".18
Во время написания "Рассуждении"
Павлу было 28 лет, а девятью годами ранее он подал своей матушке другие
"Рассуждения", в которых предлагал: отказаться от наступательных войн (!), а
военную систему устроить для целей обороны и так, чтобы она не была в тягость
защищающимся. В "Рассуждениях" имелись и вполне конкретные рекомендации, как
все это сделать.
И вот теперь становится совершенно
понятно, за что двести лет клянут Павла монархисты. Двойник самодержавия -
всегда инспиратор абсолютизма, он экспансивен, и проводники его намерений в
политике всегда выступают за империализм. Поэтому для монархистов Павел -
республиканец. Труднее понять, чем не угодил Павел демократам. Однако попробуем
разобраться и в этом.
Влияние Н.И.Панина на "российского
Гамлета" проявилось еще в одном отношении.* Панин был знаком с оккультными
течениями своего времени, состоял членом ряда масонских лож. Видимо, разговоры
на эту тему также велись во время учебных занятий;
впоследствии к этому добавились непосредственные знакомства Павла с
высокопоставленными членами масонских братств, куда он, в конце концов, вступил
и сам. Историк П.И.Бартенев по этому поводу писал: "Любопытно было бы узнать, с
какого времени Павел Петрович поступил в орден франкмасонов (в Стокгольме, во
дворце, есть его портрет в орденском одеянии). Через супругу свою он находился
под сильным влиянием прусского двора, а прусский наследный принц принадлежал к
числу самых ревностных членов ордена".19 О принадлежности Павла к
ложам свидетельствует и Н.А.Саблуков. 20
* Нам, однако, не следует слишком переоценивать влияние
Н.И.Панина. Воспитанник сам был чрезвычайно предрасположен к усвоению того рода
идей, что изложены в его "Рассуждсниях". Кроме того, вообще не известно, слышал
ли Павел всё изложенное во втором "Рассуждении" от Панина или сам говорил ему
это. Вслед за тем он написал еще одну записку, в которой речь идет о вещах,
совсем практических, об учреждении целой системы министерств и проч.
Панин явился лишь пробудителем всех этих наклонностей в молодом
Павле. Ведь Павел испытывал на себе и иные влияния, но они не имели успеха. Так,
уже в самую раннюю пору юности, а вернее даже детства (в 11 -12 лет) к нему не
раз подступали со своими искушениями развращенные фавориты и всякая челядь
екатерининского двора. С другой стороны, глубоко уважая Фридриха Великого, он
"не заразился (его) ... упорным безбожием" (Н.А.Саблуков).
О связях Павла с ложами вскоре
стало известно Екатерине II, и окружавшие ее иезуиты всполошились. Екатерина,
воспользовавшись введенным Петром I правом назначать преемника по выбору
правящего монарха, решила вместо Павла завещать трон его сыну Александру. С
этой целью Александр сразу же после рождения был фактически отнят у родителей,
и все его воспитание перешло в руки "царственной бабки". Павел, уже хорошо
понимавший, куда клонится дело, и чувствовавший большую личную ответственность
за будущее страны и народа, в среду которого он был поставлен судьбой,
воспротивился этому намерению. И когда Екатерина умерла, он активно занял трон,
вполне принадлежавший ему по праву. Имеется слух, будто Павел уничтожил тайное
завещание Екатерины. Вполне возможно, что это правда. Однако было бы весьма
странно, противоестественно, если бы при жизни зрелого и многоопытного отца
трон занял совсем еще юный сын, к тому же лично вовсе не желавший этого.
* * *
Итак, на русский престол взошел
человек, несший в себе черты архетипа личности эпохи души сознательной. В
дневнике Гете на день, когда он узнал об убийстве Павла приходится следующая
запись: "Фауст. Смерть Императора Павла". Вряд ли (хотя это утверждают многие)
здесь лишь простое совпадение. Кому, как не Гете, было распознать, где в его
эпоху проявляется фаустовская душа.*
* Гете пристально изучал все обстоятельства убийства Павла I, о
чем сохранились записи в его бумагах. А это значит, что и ранее он проявлял к
нему интерес.
Гамлета, как об этом говорит
Р.Штайнер в лекции, которую мы уже цитировали в предыдущем очерке, можно
рассматривать как ученика Фауста. Другим учеником Фауста, говорится в той
лекции, был русский, но это был лишь дух, улетевший потом на Восток. И вот мы
констатируем, что дух этот воплотился; правда, не во множестве людей, а в одной
личности. Произошло это благодаря тому, что Павел - почти немец по
происхождению. Одних культурных импульсов для такого воплощения на русской
почве в XVIII веке не хватило бы. Однако и одной крови было мало, тем более,
что это была "голубая" кровь царствующих домов Европы. Было необходимо, чтобы к
ней примешалось русское начало, мощное действие ауры русского народа. Тогда
врожденная способность к развитию я-сознания* пришла в
связь с глубокими религиозными, спиритуально-нравственными импульсами,
действовавшими в русской народности, но также, что особенно примечательно, и с
теми пра-славянскими импульсами, в силу которых "русскость и царизм испокон
веков были отчужденнейшими по отношению один к другому явлениями ...не
сочетались вместе". 21
* Что Екатерина II была наделена незаурядным умом - в этом мнении
сходятся все. Об отце Павла, Петре III (которого, кстати, тоже называют
полоумным) Р.Штайнер рассказывает в лекции от 19 июня 1917 года (ИПН 176), что
во время его правления Россия в союзе с Англией и Австрией вела семилетнюю
войну против Франции и Пруссии. И вот, от русского двора поступила нота к
дворам австрийскому и прусскому с предложением прекратить бессмысленную войну
на основе взаимных уступок. Нота отличалась необычайной реалистичностью, и мир
был заключен.
Таковы суть те ингредиенты, из
которых слагается характер русского "ученика Фауста". В нем мы видим проявление
первой зари того, что впоследствии станет главным элементом русского духа:
"...интеллектуальность, которая в то же время является мистикой, мистика,
которая в то же время является интеллектуальностью".22
Однако, найдя ключ к пониманию
личности Павла, мы все еще не способны судить о его действиях, пока не
попробуем представить себе нечто, не нашедшее своего отражения в мировой
литературе: Гамлета в роли императора державы, в одно столетие проделавшей
путь, равный полутысячелетнему развитию европейских стран, да к тому же ставшей
после Петра I мировой. Мы не склонны думать вместе с Герценом, что Гамлет или
Дон-Кихот - фигуры, не подходящие для трона в эпоху, когда трон еще существует.
История убедительно показывает, сколь много бед понаделали признанные всеми
прагматики. Но дело даже не в общих принципах, ибо речь у нас идет о случае
почти уникальном. Поэтому попытаемся с разных сторон взглянуть на то положение,
в котором оказался Павел I, заняв русский трон, и не будем при этом спешить с
выводами.
Петровские реформы, как мы уже
говорили, не только вывели Россию из предшествовавшего застойного состояния, но
и буквально вышибли ее из какого бы то ни было равновесия. В последующий период
она медленно и мучительно приходила в себя. При этом "жало" петровских деяний
давало о себе знать вовсю. "Сердца развращаются, образ мыслей становится низок
и презрителен", - сетует Д.И.Фонвизин, крупнейший русский писатель XVIII века.
А вот как характеризует ту эпоху В.О.Ключевский: "Потеряв своего Бога,
заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из Его храма, как человек,
ставший в нем лишним, но, подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед
уходом набуянить, все перебить, исковеркать, перепачкать. ... Новые идеи
прививались как скандал, подобно рисункам соблазнительного романа. Философский
смех освобождал нашего вольтерьянца от законов божеских и человеческих,
эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов,
кроме полицейского...".
Дарованная дворянам вольность
вызвала их отток по своим деревням, и фонвизинский Митрофанушка стал типичной
фигурой русского мелкопоместного дворянина. Крупная
аристократия сибаритствовала при дворе императрицы, помышляя лишь о новых
благах. Светлейшие представители культуры не допускали мысли об освобождении
крестьян.
И вот в такой среде Павлу
предстояло осуществлять те свои планы, о которых мы читали в его
"Рассуждениях". Не осуществлять их он не мог, ибо хорошо понял дух своей эпохи,
понял всю анахроничность монархий в новое время. Но препятствием на пути к
реформам были не столько неграмотные крестьяне, сколько полуобразованное
дворянство. Чтобы ввести конституцию, учредить выборное правление, нужно было
подготовить, воспитать соответствующих ему носителей. Вот почему Павел принялся
за дворянство и получил при этом прозвание противодворянского царя или даже
санкюлота
Была перед Павлом и еще одна
трудность. Характер ее мы поймем, обратясь к одному размышлению Пушкина,
которое мы находим в его "Заметках по истории XVIII в " (1822 г.).
"Аристокрация после его (Петра), - говорит Пушкин, - неоднократно замышляла
ограничить самодержавие; к счастью, хитрость государей торжествовала над
честолюбием вельмож, и образ правления остался неприкосновенным. Это спасло нас
от чудовищного феодализма, и существование народа не отделилось вечною чертою
от существования дворян. Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились,
то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже
вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б
число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и
почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в
России закоренелое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна с
освобождением крестьян ... мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с
просвещенными народами Европы".
Все это, несомненно, понимал и
Павел, но он был не писатель, а монарх, поэтому о том, что он понимал, мы
должны судить на основе его действий Они же были таковы, что в особой строгости
он держал высшее офицерство, старался приучить к дисциплине и порядку мелкое
дворянство, внести хоть какие-то элементы самосознания в среду низших сословий
- купечества, солдат, крестьян. "Солдат, полковник, генерал - теперь это все
одно!" - восклицает один современник Павла; другой свидетельствует: "Офицеры
перестали нежиться, а стали лучше помнить свой сан и уважать свое достоинство";
третий же говорит, что "...император Павел ... создал в некотором роде
дисциплину, регулярную организацию, военное обучение русской армии, которой
пренебрегала Екатерина II".
У нас нет возможности рассмотреть
подробно другие стороны жизни и деятельности Павла, но если бы мы это сделали,
то получили бы новые подтверждения тому, сколь осмысленно и проницательно
действовал Павел. Впрочем, возьмем еще один пример Павел отменил пенсию,
которая выплачивалась от русской короны изгнанному Людовику XVIII (200 тыс.
рублей в год). Зачем он это сделал, осталось не ясно до сих пор. Казалось бы, почему одному
"абсолютисту" не поддержать другого, пострадавшего от революции? Но вот,
полтора десятилетия спустя Александр I освобождает Париж и наносит Людовику,
воцарившемуся в Тюильри, визит, а тот встречает его не то что не любезно, но
просто враждебно, несмотря на то, что был обязан ему возвращением трона. Когда
же Людовик снова бежит от Наполеона, то остаются его бумаги, благодаря которым
обнаруживаются его недобрые замыслы против Александра. Мы не знаем причин столь
вопиющей неблагодарности Людовика, они - в действиях тайных пружин европейской
политики, о которых можно только догадываться. Но для нас становится ясным
другое: значит, было за что лишать Людовика пенсии. Павел узнал о какой-то его
закулисной деятельности и совершил поступок, умолчав о причине; и лишь случайно
позже обнаруживается, что он был прав, а иначе и по этому поводу можно было бы
судачить, как кому вздумается. И так обстоит со многим в деятельности Павла,
ибо он находился в положении между Сциллой и Харибдой- "Сцилле" внутренних
трудностей, о которых мы уже говорили, противостояла "Харибда" трудностей,
шедших извне. Суть их сводилась к следующему.
Павел, как мы теперь знаем, был
введен в масонские ложи. Будучи императором, он, естественно, занимал там
далеко не начальные градусы. А это значит, что он располагал широкими
сведениями обо всем, что присходило за кулисами внешних политических событий,
инспирированных из лож. Французская революция раскрыла ему способы действия и
намерения британского оккультизма. С другой стороны, он был хорошо осведомлен о
масштабах внедрения английского масонства в русские ложи. И вот теперь мы можем представить себе, что за
проблема встала перед Павлом Россия - мощная мировая держава - уже никак не
могла быть скинута со счетов европейской политики, и это implicitе делало ее врагом Англии, вернее,
британской мировой политики.
Понимая опасность подобной конфронтации,*
Павел и словом, и делом подчеркивал миролюбивый характер русской политики,
избегал всяких столкновений с британскими интересами. Но это уже мало чему
помогало, ибо в Англии рассуждали так: хорошо, этот русский император
миролюбив, но где гарантия, что при его преемниках все не изменится самым
кардинальным образом? Поэтому не было средств, способных ее успокоить И это
Павел также понимал. Потому он и вознамерился как можно скорее образовать в
России сословие людей, способных обратить демократические преобразования на
благо отечеству, выработать такую форму правления, которая не внушала бы страха
Европе и, одновременно, была бы эффективной в отстаивании суверенитета
собственной страны. Чтобы все это осуществить, нужно было не дать тому, что
через революции развязывало руки кровавому террору, сорвать процесс постепенной
демократизации путем ограничения монархии конституцией. Главная трудность на
этом пути заключалась в том, что приходилось опираться на людей, которые, с одной
стороны, должны были бы стать носителями демократических преобразований, а с
другой - сплошь и рядом были членами лож, подчинялись дисциплине лож, в которых
преобладали англофильские настроения и прямое влияние Англии.
* Он это понял, еще будучи юношей, что явствует из его "Записки",
поданной Екатерине II
Таковы были трудности. Но у Павла
не было выбора. Он мог бы не вступить в борьбу лишь в том случае, если бы не
понимал расстановки сил или не захотел бы ее понять, подобно своей матери, или,
наконец, ограничился бы лишь благополучием собственной персоны, на что пошел
ряд европейских монархов. Хотя в последнем случае риск для него все равно был
велик. Ибо Россия - это, скажем, не Швеция. Ее неискупимым "грехом" в глазах
представителей британских мировых интересов стало само наличие ее обширных
ресурсов.
Павлу, как высокоградуированному
масону, несомненно, делались предложения пойти путем той демократизации, что
пропагандировалась в ложах. Но Павел ответил отказом, ибо перед его глазами
стояла французская революция, и было ясно, какие дела могут проистечь из
высокопарных слов По этому поводу у него есть следующее весьма любопытное
высказывание: "Он (Людовик XVI) начал снисходить и был приведен к тому, что
должен был уступить. Всего было слишком мало и между тем - достаточно для того,
чтобы в конце концов его повели на эшафот".
Павел избрал другой путь. Он
вознамерился обуздать безумие, охватившее ложи Как исходящее из этого намерения
следует понимать его решение принять звание гроссмейстера Мальтийского ордена.
Историки обычно придают второстепенное значение этому факту, объясняя его
романтическими наклонностями Павла, тогда как он является стержневым во всей
европейской и особенно средиземноморской политике России конца XVIII века.
Мальтийский орден, или орден
Иоаннитов был последним из глубоко духовных орденов Европы. Он пользовался
высоким авторитетом в среде духовно ищущего масонства. Полноправным
представителем его интересов при европейских дворах долгое время являлся граф
Сен-Жермен, та историческая индивидуальность (внешнему миру о ней известно
довольно мало, но у нее нашлось много подражателей, и вот о них-то и
сохранились разные авантюрные истории), которую следует рассматривать как
стоявшую в тесной связи с самим Христианом Розенкрейцем. Ввержение масонства в
радикальную политическую борьбу, распространение в его среде атеизма поставило
Мальтийский орден в опасное положение, поскольку суверенитет острова Мальты
сильно зависел от Франции и герцогств Италии. Руководители ордена стали искать
сильного покровительства перед лицом надвигавшихся катаклизмов. Особого выбора
у них не было. Причастность английских лож к возникновению якобинской диктатуры
для них не составляла тайны. Оставались венский двор и Петербург. В 1795 г в
Петербуг приехал посланник ордена граф Литта. Его сопровождала представительная
свита: носители большого креста, командоры. Павлу было сделано предложение
стать покровителем ордена, и в 1797 году он это предложение принял.
Год спустя армия Бонапарта по пути
в Египет осадила порт Ла-Валетта и благодаря предательству* захватила
его. Начался грабеж. Французские офицеры, среди которых было множество членов
лож, срывали со стен орденских помещений оккультные знаки, захватывали
священные реликвии.** Гроссмейстера ордена Фердинанда фон Гомпеша путем грубых
унижений заставили подписать капитуляцию. И тогда Павлу было предложено стать
гроссмейстером ордена. В Петербурге был создан филиал ордена из двух приорств:
российского православного и российского католического. Русское дворянство
получило, таким образом, возможность вступать в орден, не меняя
вероисповедания.
* К концу XVIII века орден был в значительной степени подорван
изнутри проникшими в него иезуитами
** Все это было погружено на корабль, который вскоре затонул
Принимая гроссмейстерство, Павел
намеревался противопоставить радикализму лож высокие духовные идеалы орденов и
таким путем в цепочке (о которой мы уже говорили): ордена - ложи - партии,
подвинуть пошатнувшийся центр тяжести влево, ближе к истокам правомерного
духовного водительства.
В Манифесте от 21 декабря 1798 г.
Павел заявил об этом открыто, хотя и на языке братств. Законы и правила ордена,
стояло в Манифесте, ".. предъявляют сильную преграду против бедствий,
происходящих от безумной страсти к переменам и новостям необузданным..." Таким
образом, Мальтийский орден становился пробным камнем, на котором должны были
обнаруживаться тайные замыслы европейской политики.
Борьба за Мальту началась еще в
1797 году. Павел тогда сделал попытку урегулировать отношения с Францией,
борьбу с которой начала еще Екатерина, вступив в союз с Англией и Австрией.
Подобным шагом Павел намеревался занять нейтралитет в конфронтации Англии и
Франции и ограничиться узкой задачей поддержки Мальты. Но переговоры.с Францией
были сорваны П.И.Паниным (чем он впоследствии открыто хвастался), братом
воспитателя Павла и впоследствии участником антипавловского заговора. Захват французами
Мальты* довершил дело, и 18 декабря 1798 г. Россией был заключен союз с
Англией, а через два дня принято соглашение о возвращении Мальты ордену.
* Какой недальновидный шаг для такого стратега, как Наполеон,
если брать вещи
Для борьбы с набиравшим силу
Наполеоном Англия остро нуждалась в помощи России, но заключенный союз заставлял
ее отказаться от прежнего способа проводить свои намерения в жизнь через
европейские ложи. Так, хотя бы на короткое время, тактика Павла увенчалась
успехом. В Константинополе состоялось совещание, в котором приняли участие
адмирал Ушаков, английский и турецкий посланники. Было решено послать
объединенный флот на освобождение Ионических островов. Взятием Корфу операция
была успешно завершена. Французов выбили с островов, и их население получило от
Ушакова конституцию. Теперь открывался путь на Мальту. Но тут в позиции Англии
стал проявляться чисто внешне все возрастающий оппортунизм. Дело
кончилось неожиданным захватом Мальты англичанами 25 августа 1800 года. Это
было прямое предательство, и в Петербурге оно произвело ошеломляющий эффект.*
Подобным актом стоявшие за кулисами британской политики оккультные братства
фактически раскрыли свои карты. Теперь Павлу стало ясно, что борьбы с Англией
не миновать и в ней будет решено: удастся ли поставить предел рискованной
экспансии британских братств или Россию ждет судьба Франции. В изменившихся
условиях требовалась концентрация всех сил, и потому Мальта временно отступала
на второй план. Эскадре Ушакова было ведено вернуться в Севастополь, и она
покинула Ионические острова, еще раз продемонстрировав отсутствие каких-либо
завоевательных намерений у России.**
* Мы прослеживаем лишь главные нити той сложной и тайной борьбы.
Не все участвовавшие в ней стороны всегда и вовремя понимали истинный смысл
происходящего. Оттого возникали ложные действия, неправильные суждения, и
поныне сбивающие с толку многих историков. Не умея проникнуть к сути событий,
они тем охотнее ограничиваются описанием их внешней канвы. Но тогда приходится
довольствоваться лишь большой иллюзией.
** Попытки историков объяснить заинтересованность Павла в судьбе
Мальты военностратегическими планами столь зыбки, что мы даже не станем их
касаться.
23 октября 1800 г. на все
английские суда, находившиеся в русских портах, было наложено эмбарго, а
дипкорпус в Петербурге получил ноту, в которой говорилось о нарушении конвенции
от 20 декабря 1798 г. (о Мальте). Перед Англией было поставлено требование
выполнить условия конвенции и тогда эмбарго будет снято, но одновременно Россия
снова обратилась к переговорам с Францией. Наполеон был тогда единственной
силой, открыто противоставшей британским намерениям.
Существует один, можно сказать,
методологический принцип, который необходимо усвоить, если желаешь понять новую
эпоху, состоящий в том, что не всегда борьба в ней ведется между силами добра и
зла. Часто силы зла сами побивают друг друга. Так, французская революция была
явно лициферически-ариманическим порождением, истребившим в конце концов само
себя. Не романтическим героем был Наполеон, а подставной фигурой,
инспирированной Ариманом. В этом следует искать объяснение его совершенно бесчеловечного
военного гения.* Ища союза с Наполеоном, Павел, как говорится, лишь попадал
из огня да в полымя. Россия настаивала на возвращении Мальты ордену, Наполеон
принял на себя некоторые обязательства, однако в дальнейшем постоянно ими
манкировал, обнаруживая этим (более, чем всем остальным) непримиримую
враждебность духу. Вторым условием России в переговорах с Францией была высадка
совместного десанта в Англии. Но и в этом вопросе Наполеон повел себя по
меньшей мере странно. Это особенно бросается в глаза на фоне политики Павла.
Осознав неизбежность войны с Англией, Павел делает все необходимое для того,
чтобы ее не проиграть, даже планирует посылку казачьего корпуса в Индию, что,
несомненно, не заключало в себе никаких колониальных намерений, а имело целью хотя бы на время
лишить Англию богатых поступлений из ее основной колонии. Наполеон же, получая
союзника в борьбе со своим главным противником, вдруг в январе 1801 г.
заключает союз с Австрией и этим создает кризис в переговорах с Россией. Так
обнаруживает себя действительная расстановка сил. Не политика волнует Аримана,
а духовная судьба России. Сорвать подготовку грядущей культуры - такова его
главная цель; сообразно с нею действует и марионетка Наполеон. Что же касается
британского оккультизма, то он, впав в национальный эгоизм, также считает за
лучшее для себя не дать осуществиться шестой культурной эпохе и вместо нее
продлить пятую культуру, где англоязычным народам принадлежит ведущая роль.
* Д.С.Мережковский в своем романе-биографии "Наполеон" изобразил
его одновременно и спасителем Европы от якобинских революций, и демоном,
наделенным недоброй метафизической силой.
Англия в своем подходе к войне с
Россией заняла ничуть не менее реалистичную позицию, чем Павел, и в конце зимы
1801 г. ее флот под командованием адмирала Нельсона взял курс на Кронштадт. Но
вскоре произошло убийство Павла, и до войны дело не дошло.
О готовящемся убийстве русского
императора в Англии знали и ждали его. По этой причине английский кабинет не
проявлял абсолютно никакого беспокойства в условиях надвигавшейся войны.
Заговор против Павла был составлен в петербургских ложах. Возглавляли его граф
фон дер-Пален и генерал Бенигсен - английский подданный, состоявший на русской
службе. Русским не особенно доверяли, даже введенного в главное ядро
заговорщиков князя П.Зубова Палён презирал и считал ничтожным.
Заговорщикам удалось как-то
впутать в свои махинации сына Павла Александра. Нет никаких реальных оснований
причислять его к участникам заговора, что упорно стараются сделать историки.
Все, чего удалось добиться Палену, это, вербуя своих сторонников, ссылаться на
то, что великий князь на их стороне, иначе из русских никто за Паленом не пошел
бы. Проверить утверждение Палена было невозможно. - Ну кто бы решился подойти к
Александру и открыто спросить, состоит ли он в заговоре против отца. Косвенные
же свидетельства в свою пользу Пален фабриковал, беспардонно интригуя между
отцом и сыном. Этот новоявленный Яго внушал Павлу, что сын злоумышляет против
него, а сына пугал тем, что отец уже решил сослать его. Подобным же образом
поступали и с императрицей, нашептывали ей, что муж хочет заточить ее в
монастырь. Сторонникам Палена удалось устранить из окружения Павла всех верных
ему людей. По всему Петербургу интенсивно распространялись разные ложные слухи,
анекдоты, дискредитировавшие императора. Насколько они были сильны, можно
судить по их долгой жизни. Особенно широко пользовались тем, что выполняя
приказы Павла доводили их до абсурда и тем как бы фактически укрепляли главную
доминанту ведшейся против него пропаганды - будто бы он душевнобольной. В
какой-то мере в этом, вероятно, удалось убедить даже Александра. Ему внушали,
что для блага страны его отца надо отстранить от власти. Однако не доказано,
был ли Александр согласен даже с этим. Зато хорошо просматривается другое:
заговорщики забрали в руки такую власть, что смогли запугать и подавить всех,
кто был с ними не согласен, в том числе и Александра. Увидев его, рыдающим о
погибшем отце, Пален цинично бросил: "Аssez fairе l'esanfant! Аssez
regner!" (Довольно ребячиться! Идите царствовать!)
Убийство Павла было подготовлено
основательно. В замок проникли два отряда: один под командованием Бенигсена,
другой - Палена. Совершить убийство предназначалось отряду Бенигсена, но если
бы что-то этому помешало, на помощь должен был выступить отряд Палена. Кроме
того, повсюду в коридорах были расставлены вооруженные офицеры, на случай, если
императору удастся бежать.
Вокруг главного ядра заговорщиков
существовал более широкий круг, в него входил английский посол в Петербурге.
Круг этот тоже действовал с большой эффективностью. Когда раскаявшийся адмирал
де Рибас вознамерился предупредить Павла о готовящемся покушении, то тут же
тяжело заболел: ему дали "не то" лекарство. Н.П.Панин дежурил возле постели
больного, пока тот не умер. В Лондоне связным заговорщиков служил русский
посланник граф С.Р.Воронцов, отстаивавший английские интересы лучше любого
англичанина. Он, в частности, страстно призывал Павла к войне с Францией и
проповедовал идею, что России не следует развивать мореплавания и
промышленности, а лучше специализироваться на одном сельском хозяйстве.
Прямых свидетельств причастности
Англии к заговору не сохранилось, но и на основании косвенных в ней можно не
сомневаться. Вот несколько примеров. Среди заговорщиков находилась некая
О.А.Жеребцова (позже, в 40-х годах, она протежировала Герцену), родственница
князей Зубовых. Она была любовницей английского посла и открыто хвасталась, что
имеет ребенка от самого английского короля. Незадолго до цареубийства она
выехала в Европу и в Берлине, не таясь, заявила, что Павел скоро будет убит. В
дальнейшем, как пишет историк Е.С.Шумигорский, ссылаясь на свидетельство князя
Лопухина, сестра которого была замужем за сыном Жеребцовой, эта последняя
прибыла в Лондон и там после кончины Павла получила 2 млн. рублей для раздачи
заговорщикам, но присвоила их. "Спрашивается, - восклицает Шумигорский, - какие
же суммы были переданы в Россию ранее?"23 Действием английского
золота объяснял убийство Павла и Наполеон.
Наконец, большой интерес
представляют для нас некоторые высказывания о Павле княгини Е.Р.Дашковой
(урожденной Воронцовой), сделанные ею в своих мемуарных записях ("Записки.
1743-1810". Изд. "Наука", 1985). Эта незаурядная женщина уже в 18-летнем
возрасте оказалась едва ли не главным действующим лицом, как она сама
утверждает, в заговоре против Петра III. Ее дальнейший жизненный путь показывает,
что в ложах высшей аристократии Европы она обладала весьма высоким градусом. Не
вызывает сомнений и ее проанглийская ориентация. К Павлу Дашкова питала
устойчивую антипатию. Но, несмотря на это, она признает, что у Павла "...были
проблески справедливого чувства и редкого (по качеству) великодушия и
прозорливости". Совершенное душевное здоровье Павла не подвергается ею ни
малейшему сомнению; и это особенно важно, поскольку наблюдать Павла эта
проницательная женщина имела возможность на
протяжении всей его жизни. Но нас в данном случае интересует не это, а ее
предсказание гибели Павла. Она пишет: "Не знаю, каким образом, но в голове моей
вселилась мысль, что конец царствования Павла настанет в 1801 г. Я сообщила ее
брату... Наконец, в январе 1801 г. мой брат, вспомнив мое пророчество,
воскликнул: "Вот год уже начался". - "Он начался, это верно, - ответила я, - но
мы еще только в январе, а мое пророчество исполнится через три месяца".
Действительно, 12 марта провидению угодно было допустить..." и т.д. Если
учесть, что родным братом Дашковой был вышеупомянутый русский посланник в
Лондоне С.Р.Воронцов, то метафизический налет в словах княгини можно оставить
безо всякого внимания ввиду его полной незначительности.
Имеются попытки обосновать мотивы
заговорщиков конституционными намерениями. В этой связи говорят, например, о
проекте конституции П.Зубова. Но достаточно познакомиться с биографией этого
князя, чтобы найти подобную версию просто смешной.24 Небезынтересно
отметить и тот факт, что после цареубийства у заговорщиков не оказалось никаких
дальнейших планов, могших послужить ко благу России. В то же время, уже при
Александре I П.И.Панин заключил с Англией конвенцию о морской торговле, сведшую
на нет все усилия не только Павла, но и Екатерины II. Эта конвенция подвела,
кроме того, и союзников России Данию и Швецию. Воронцов же назвал конвенцию
"совершенной"!
Не вызывают сомнений и
"якобинские" намерения Англии в отношении России, которых так опасался Павел.
До нас, например, дошли слова одного из заговорщиков, офицера Н.Бибикова,
сказанные им за последним ужином, на котором спаивали непосредственных
исполнителей цареубийства. Он тогда сказал: "...нет смысла стараться избавиться
от одного Павла ... лучше всего было бы отделаться от них всех сразу"25.
Один из современных исследователей эпохи Павла приходит к выводу: "Крайнее,
республиканское мнение или чувство, по крайней мере словесно близкое к тому,
что прежде говорилось Радищевым и делалось в революционной Франции, - эта идея
легкой вспышкой обозначит свое присутствие в ночь с 11 на 12 марта, исторически
предвосхитит важные декабристские слова и мысли".26
Итак, Павел проиграл в своей
борьбе с "безумием лож". Его убийство показало, сколь опасно противопоставлять
себя намерениям оккультных братств Британской империи, а дальнейшие события
показали, сколь опаснее им потакать. Все это так, и тем не менее, памятуя
сказанное нами о трудностях понимания больших мировых проблем, мы все же должны
видеть истинного убийцу Павла в двойнике русского самодержавия. Ему удалось это
сделать по той причине, что Павел не сумел вызвать в достаточно широком кругу
своих современников правильных представлении о сути и задачах новой эпохи. Но
если бы это произошло, то из духовного мира были бы привлечены силы доброго
Духа-Водителя Народа, который действует в ответ на свободное прошение людей; и
тогда был бы создан заслон против люциферически-ариманических происков.
Вернее сказать - Павел не успел
этого сделать. Возникнув как бы на вершине претворенной в добро волны
петровских мероприятий, он был смыт противоположным, неочищенным ударом,
пришедшим из хаоса европейских событий. Его враги, отстраняя от него верных
людей, тем самым лишали его духовной защиты и убили, когда он остался один.
В заключение остается еще сказать,
что при восшествии Павла I на престол одному солдату дворцового караула было
видение архангела Михаила, а кончина большинства убийц Павла, как свидетельствует
один современник, "представляла ужасную нравственную агонию в связи с самыми
жестокими телесными муками".
Александр I, занявший трон после
убитого отца, самой своей судьбой был предопределен продолжать его дело. И он
сознавал это. Получив известие о гибели отца, он заявил дворцовой страже: "Все
при мне будет, как при батюшке".* Однако в обнародованном на другой день
манифесте, написанном стоявшим в отдалении участником заговора Д.П.Трощинским,
давалось обещание править в духе "августейшей бабки". Этим еще раз
разоблачаются намерения заговорщиков. Они, как видим, не шли далее мечтаний о
вальяжном житье-бытье времен Екатерины, а значит - золото было металлом этих
людей. В ночь убийства Александр поставил им условие: "Определите права и
обязанности суверена; без этого трон меня совершенно не привлекает". И вот их
условие: править в духе "бабки". Другого желания у них не было, ибо в ту ночь
все было в их руках, и они могли диктовать свою волю.
* Это также свидетельствует о его непричастности к заговору.
Но нам теперь важно другое.
Заветной мечтой Екатерины было так воспитать наследника, чтобы он правил
всецело в ее духе. Когда Павел примкнул к франкмасонам, то этим он как бы
разоблачил себя раньше времени. Тогда определенное екатерининское окружение
вознамерилось помешать ему занять трон. Но если Павла, так сказать, "прозевали",
то в отношении родившегося у него первенца подобной "ошибки" решили не
допускать.
Александр родился 12 декабря 1777
г. и тотчас же после крещения был отнят у родителей. И достойно серьезного
внимания, как его растили и воспитывали под "протекторатом бабки". В комнате,
куда поместили младенца, температура зимой не превышала 15 градусов. Купали его
в холодной воде, спать клали под тоненькое одеяльце, без всякого режима,
приучая засыпать среди шума и разговоров. Впоследствии Александр говорил, что
ощущение холодной воды было первым сознательным переживанием детства. Как
следствие всех подобных мероприятий у него на всю жизнь остался плохой слух.
Едва он подрос, из его воспитания были исключены музыка и стихосложение. В
четыре года ребенок читал на 2-х языках. В наставники ему был дан швейцарец
Лагарп - мизантроп, чуждый всяких религиозных убеждений. С ранних лет он
старательно будил в Александре критическое отношение к окружению. В 15 лет
Александра женили.
В век "глубоконаучной
обоснованности" такого рода факты никому ни о чем существенном не говорят или
даже могут показаться прогрессивными.* Но кто знаком с духовнонаучными основами
педагогики, разработанными Р.Штайнером, тот знает, сколь гибельно для души
ребенка раннее закаливание. Оно нарушает развитие всей системы органов чувств,
поскольку душевные силы тогда односторонне употребляются на защитные функции
кожного покрова, отчего перегружается и гипертрофируется периферическая нервная
система. Постепенно искажается весь процесс воплощения души в тело, она теряет
возможность развернуть в дальнейшем заложенные в ней дарования, делается слабой
и неуверенной в себе. А если к тому же душу в процессе воспитания лишают
музыкального, поэтического, рано развивают в ней критицизм, то правомерно
задуматься: является ли все это чудачеством или планомерным действием с заранее
намеченной целью?
* Хочется заметить попутно, что в этот век с иступленностью
средневековых инквизиторов клеймят все здоровые проявления спиритаулизма, но
при этом можно спокойно заниматься самым темным чародейством и волшебством,
лишь бы это было подано "научно".
В европейской истории имеется
случай, похожий на описываемый нами. Он произошел с Каспаром Хаузером. Теперь
стало известно, что в этом человеке воплотилось чрезвычайно высокое духовное
существо. Темными оккультными братствами эта инкарнация была открыта, и чтобы
не дать ей развернуться во всю силу, был принят ряд мер: ребенка изъяли у
родителей, поместили в полутемное помещение с низким потолком, так что, немного
подросши, он не мог даже выпрямиться во весь рост, и проч. Так, со знанием дела
старались исказить связь души с оболочками, не дать ей полноценно овладеть ими.27
Эта история происходила уже в
начале XIX века, однако знание о том, что можно манипулировать человеческим
воплощением, несомненно, было известно темным братствам много ранее. И вот
создается впечатление, что воспитатели Александра "ведали", что они с ним
творят.28 Современники свидетельствуют, что на трон он взошел
"утомленным", - и это в 24 года! - всю жизнь страдал внутренней раздвоенностью,
склонностью переходить от одной крайности к другой: от скепсиса к экстазу, от
активной деятельности к апатии. Но наравне с этим Александра отличало нечто
такое, в чем обнаруживается, скажем, дух иного порядка. Он почти магнетически
действовал на окружающих. Проявление его симпатии к людям было всепобеждающим,
так что М.Сперанский назвал его "сущим прельстителем". Он был необычайно
чувствителен к спиритуальному. У него случались пророческие сны. Так, однажды
он увидел, как возле Зимнего дворца падает орел и умирает на снегу. При этом
некий голос изрек: "Первый за тобою. Второй после тебя... Твоего имени второй".
Сон был вещий, в нем мы узнаем судьбу Александра II, убитого террористами.
Александра многие упрекают за
чрезмерный мистицизм, выразившийся, кроме прочего, в подверженности влиянию
одной ясновидящей пророчицы, баронессы Крюденер, предсказавшей
поражение Наполеона в России. Влияние это сильно преувеличивают, но интересен
один случай из этой истории. Однажды император ночевал в Гейдельберге, заехав
туда после Венского конгресса. Он сильно устал и не велел себя беспокоить ни по
какому поводу. Поздно ночью к дежурившему во дворце, где ночевал император,
князю Волконскому явилась загадочная дама и настойчиво потребовала свидания с
Алексантром, уверяя, что он ее примет. Это была Крюденер. Волконскому пришлось
уступить, и он был чрезвычайно удивлен, найдя усталого императора бодрствующим.
И тот сказал ему, что ждет эту женщину, хотя знает о ней лишь понаслышке.
Желание увидеть ее пришло к нему как бы по внутреннему внушению.
Но особенно интересен конец жизни
Александра. Существует версия, что он не умер в Таганроге, а ушел странствовать
как простой монах. Веские доказательства говорят в пользу этой версии: характер
отъезда императора из Петербурга, когда по всему было видно, что он прощается с
городом навсегда, похороны закрытого гроба* и многое, многое другое. Уход
Александра не остался в тайне, и вскоре пошел слух о некоем сибирском старце
Федоре Кузьмиче. О нем даже была написана книга: "Сказание о жизни и подвигах
великого раба божия старца Федора Кузьмича" (СПб., 1891 г.). Старец умер в 1864
г. в возрасте 83-х лет в Томске. Многие люди встречались с ним, в том числе
один сосланный петербургский дворянин, прежде видевший Александра. У этого
ссыльного заболел товарищ. Окружающие посоветовали обратиться за помощью к
старцу Федору Кузьмичу, ибо он обладал даром исцелять больных. Ссыльный
отправился к нему и, войдя в келью, упал в обморок - перед ним был император
Александр! Старец привел посетителя в чувство, сказал, что товарищ его
выздоровеет, и просил не рассказывать о себе. Товарищ действительно выздоровел,
но тайны посетитель не сохранил. Однако это был не единственный источник, из
которого узнали, кем был старец в действительности.
* В XX веке гроб Александра I был распечатан, и он оказался
пустым.
Что важно для нас в этой истории?
Если, как следует из нее, Александр к концу жизни достиг такой степени
святости, что мог исцелять больных, то это говорит о большой силе его духа и об
особом предназначении души, воплотившейся в царствующей семье. И вот что тогда
раскрывается. Если бы Павел смог процарствовать лет 20 - 30 и хотя бы кое-что
осуществить из своих замыслов, а затем ему наследовал бы сын, проживший до 1864
года, то можно не сомневаться, что вся судьба России сложилась бы иначе. Как? -
Судить об этом можно хотя бы по тому, что крепостное право было бы отменено лет
на 50 раньше и благотворные последствия этого были бы просто неисчислимы.
Несмотря на все старания Екатерины
и ее окружения, в Александре развилось презрение к ее образу правления.
Сказывалось влияние отца, с которым он, взрослея, все больше общался. Своей
симпатией к отцу Александр в основном был обязан самому себе. Ибо ничто внешнее
его к этому не побуждало. У бабушки во дворце все блистало роскошью,
развлечения шли нескончаемой чередой. В замке у
отца во всем господствовала скромность, экономия, строгий порядок. Но зато там
было нечто такое, чего нельзя было сыскать во дворце: идеалы чести,
благородства, правдивости, серьезного и ответственного отношения к жизни.
Однако, чтобы все это полюбить, да к тому же в ранней юности, Александру нужно
было кое-что иметь в себе и от рождения.
Павел, видимо, рано начал вести с
сыном серьезные разговоры, пытаясь хоть что-то противопоставить влиянию,
шедшему из дворца. Но итогом, естественно, было нечто третье, слагавшееся под
влиянием обеих сторон. Каков он был, этот итог, можно судить по письму
Александра к В.П.Кочубею, написанному в 1796 г. (в год воцарения его отца). "Я
сознаю, - признается Александр, - что не рожден для того высокого сана, который
я ношу теперь, и еще менее для предназначенного мне в будущем... Я отойду от
власти! ... Я откажусь от нее! ... Я поклялся в душе привести мой план в
исполнение, и вот та важная тайна, которую я давно хотел сообщить вам". Далее
он пишет: "Во всех делах господствует неимоверный беспорядок. Грабеж со всех
сторон, все части управляются дурно, порядок, кажется, изгнан отовсюду, а
Империя, несмотря на то, стремится лишь к расширению своих пределов. При таком
ходе вещей возможно ли одному человеку управлять государством? Это выше сил не
только человека, одаренного, подобно мне, обыкновенными способностями, но даже
и гения, а я постоянно держался правила, что лучше совсем не браться за дело,
нежели исполнять его дурно. Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого
трудного поприща ... поселиться с женой на берегах Рейна, где буду жить
спокойно частным человеком, полагая мое счастие в обществе друзей и в изучении
природы".29
Но судьба распорядилась иначе, чем
того хотел Александр, и через четыре года ему пришлось занять трон. Вначале он
был вынужден делать то, что диктовали заговорщики: обещать возобновить
екатерининские порядки, вернуть дворянам дарованные еще Петром III вольности,
"...коими, - как писал Пушкин, - предки наши столько гордились и коих
справедливее должны были бы стыдиться".30 Но были у Александра и
иные планы, унаследованные от отца. Для их осуществления, однако, нужно было
считаться со сложившейся обстановкой. Особая угроза исходила от англофильской
группы. Александр сделал все возможное для примирения с Англией и даже более
того: отказался не только от союзных, но и от торговых договоров с европейскими
странами. Не по плечу был ему и Мальтийский орден. Он отказался от
гроссмейстерства (и мальтийский крест был снят с государственного герба),
однако сохранил покровительство над орденом и продолжал настаивать на
возвращении ему Мальты.
Внутри страны основной задачей
оставалось введение конституционного правления, создание политической власти,
способной стоять на собственных ногах в сложной игре европейских партий.
Сделать это было более необходимо, чем прежде, ибо в условиях нового века
крепостничество становилось совершенно позорным анахронизмом, растлевавшим
общество. Большинство историков пытается доказать, что Александра принуждали
принять конституцию, но чего стоят эти
утверждения, мы уже видели по тому, как вели себя те, кого объявляют
сторонниками конституции. Зубов - презираемый даже своими сообщниками, фон
Пален - лукавый царедворец и барин, наемный генерал Бенигсен - вояка и только,
- какое дело было им до русских крестьян, до демократии? Просто поразительно,
на каких шатких основаниях строят подчас историки свои концепции. Были,
конечно, в России и другие люди, заинтересованные в ее судьбе, например,
А.С.Пушкин. Но они сознавали и трудности, через которые надо было проходить,
стремясь к действительному добру.
Чего в действительности хотел
Александр, об этом мы узнаём из слов, сказанных им князю Чарторыйскому в 1813
г.: "Что же касается до форм (правления), то наиболее свободные, это те,
которые я всегда предпочитаю". Еще определеннее высказался он в 1818 г. на
открытии польского сейма. "Правители народов, - заявил он, - должны добровольно
ими данными постановлениями предварять постановления насильственные". И если
эти слова не стали вполне делом, то веские были тому причины. Мы уже отчасти
говорили о них, но вот еще один источник, который трудно заподозрить в
симпатиях к деспотизму. Когда князь Барятинский вербовал в тайное общество
будущего декабриста П.И.Фалленберга, тот спросил о целях общества. Введение
конституционного правления, - ответил Барятинский. На это Фалленберг возразил,
что Россия к нему не готова. Барятинский согласился с ним и продолжал: "...и
потому-то общество постановило первым правилом распространять просвещение, а
потом просить у Государя конституции, подобной английской". Но если так думали
декабристы, то почему мы должны винить Александра в том, что он немедленно не
ввел конституцию?
Не станем далее умножать примеры,
ибо все, что мы хотим сказать, это, что либерализация правления в России была
делом далеко не элементарным и не зависела от воли одного царя. Через все
русское общество проходила глубокая пропасть, отделявшая простой народ от
дворянства. Пушкин говорит, что она могла бы быть еще глубже, хотя и без того
она была достаточной, чтобы вызвать трагедию русской истории на повороте от
XVIII к XIX столетию. Истоки этой трагедии лежат в далеком прошлом: в XIII, XIV
веках, и уже совсем определенно выступают во времена Василия III, Ивана IV, Бориса
Годунова, наконец, Петра I. Вначале Россия не сумела создать свойственных ей
форм общественной жизни раньше, чем из мировой кармы пришел поток
монголо-татарского нашествия. К концу XVIII в. она не успела, по причине
затянувшегося рабства, образовать общественный слой, обладающий мерой
самосознания, достаточной для того, чтобы успешно противостоять пришедшим опять
же из мировой кармы ударам эпохи материализма с ее духовным и политическим
авантюризмом.
Один современник сказал о Павле I,
что "он был нам дан или слишком рано, или слишком поздно". В этом
афористическом замечании верны обе части. - Слишком поздно подошла Россия к
тому, что составляло намерения Павла, и слишком ранним оказалось явление
самосознающей личности в условиях дремучего сна и азиатского рабовладения,
унаследованного от предшествующих столетий. Так
неоднозначно идет историческое становление, и односторонние суждения о нем
ничему не служат. Российская аристократия, обладая колоссальной властью над
народом, пребывала в младенческом состоянии в сравнении с политической
зрелостью европейских правящих кругов. А когда в ее среду пришло просвещение,
то положение было таково, что разрозненным, хотя нередко и плодотворным
размышлениям отдельных русских образованных людей о пользе общества
противостала некая организованная сила. И эта сила была в ложах. Историки в
большинстве случаев игнорируют этот коренной факт. Подробно описывая события
внешней истории, они лишь в качестве некоей пикантности добавляют, что та или
иная значительная фигура состояла членом ложи или какого-либо братства. В
действительности же все ее поступки только этим последним обстоятельством и
объяснялись.
Александр I много и серьезно думал
о введении в стране конституции. Он говорил об этом с вдовствующей императрицей
Марией Федоровной, на что она возражала: "...а вдруг изберут депутатом Панина".
Несмотря на всю свою простоту, аргумент этот был фундаментальным. Если его
раскрыть, то он мог бы звучать примерно так: допустим, введешь ты конституцию,
будут назначены выборы, скажем, в парламент или в думу; твои сторонники,
переругиваясь друг с дружкой, кого-то назначат в кандидаты и тут же разделятся
во мнениях, а в ложах соберутся и едино выдвинут своих. Панин у них один из
первых. Сам-то он, может быть, и умеренный, как никак - граф, да только воли
своей не имеет, что в ложе велят, то и сделает; скажут передать власть
якобинцам, и передаст, а тогда пойдет у нас все, как во Франции. Твой папенька
сам в их среде был в градусах немалых и мог повелевать, да только видишь, что
вышло.
Считается доказанным, что
Александр также входил в ложи. Он даже сам намекает на это, заметив однажды по
адресу декабристов: "Не мне их судить". Но он уже не обладал силой и
целеустремленностью своего отца. Тот был целостной личностью, способной
принимать смелые решения, даже сопряженные с большим риском. В Александре
фаустовский феномен души был основательно подвинут в сторону сомнений,
неустойчивости, нерешительности. Будучи разрываем тем основным противоречием,
которым мучается гетевский Фауст:
"Ах, две души живут в груди моей,
Друг другу
чуждые, и жаждут разделенья.
Из них одной мила земля,
И здесь
ей любо, в этом мире,
Другой - небесные поля,
Где духи носятся в эфире."
(пер. Н.А.Холодковского).
Александр к тому же страдал от
разлада оболочек (физической, эфирной, астральной), вызванного теми
манипуляциями, которым он подвергался с детства. Ему трудно давалось
уверенное владение собственной телесностью, зато тем легче его душа склонялась
к отказу от земных дел, что и нашло свое завершение в Таганроге.
Между тем не стояли на месте и те
силы, в борьбе с которыми потерпел поражение Павел. Разгадав слабости
Александра, они определили ему сыграть роль Людовика XVI. И здесь мы подходим к
событиям, получившим трагическую развязку 14 декабря 1825 года. О них написаны
горы книг, которые, однако, более вуалируют, чем раскрывают их смысл. У нас нет
ни в малейшей степени желания бросить тень на благородные порывы декабристов.
Большинству из них были присущи и возвышенная любовь к родине, и искреннее
возмущение рабством, и желание, как сказал поэт, отчизне посвятить "души
прекрасные порывы". Европейский поход позволил русским образованным юношам
сделать поучительные сравнения. Было достаточно малой искры, чтобы возжечь в
них пламя возмущения русскими порядками, подвинуть их романтический дух на
самопожертвование. Но мы хотим обратить внимание и на другую, оставшуюся в тени
сторону декабристского движения.
Возьмем для начала такой факт, как
возраст декабристов. В 1825 г. самому главному из них, Павлу Пестелю, было 32
года, Бестужеву-Рюмину - 22, С.Муравьеву-Апостолу - 28, Каховскому - 27,
Рылееву - 30. Были среди них и совсем дети: Ипполиту Муравьеву-Апостолу в 1825
г. было 19 лет (он застрелился), одному из братьев Бестужевых, Петру - 18 лет
(он был разжалован в солдаты). Среди активных членов тайных обществ старше
Пестеля было только три человека - кн. С.П.Трубецкой (35 лет), С.Г.Волконский
(37 лет) и М.С.Лунин (38 лет).* Таков был, так сказать, возрастной статус
декабристов во время восстания. Мы упускаем это из виду, со школы привыкнув
представлять себе их образ по профильному рисунку, опубликованному на обложке
герценовской "Полярной звезды", где изображенный на переднем плане Пестель
имеет вид государственного мужа лет 55-60.
* Напомним для сравнения, что Марату в год смерти было 50 лет.
Тайные общества декабристов стали
создаваться лет за 10, или около того, до выступления на Сенатской площади.
Легко сосчитать, сколько лет было их членам тогда. Однако, что же влекло
русских юношей в ложи? С одной стороны, у них, несмотря на молодость, были
совершенно серьезные намерения. Поднималось славное поколение русской
дворянской интеллигенции, рано задумывавшейся о смысле жизни, о социальной
несправедливости. Лишь глубокое уважение могут вызвать слова Александра Муравьева
о том, что уже в ранней юности он стремился "...уклониться от суетных светских
бесед и пристать к такому обществу, которое поощрило бы к самопознанию, к
занятиям серьезным и (к) общечеловеческим чувствам и мыслям". Но наравне с этим
было и другое. Вступая в ложу, юноши тут же ввергались в деспотию строгой
дисциплины. Неофитов заставляли приносить клятвы верности, звучавшие подчас
даже благородно, но отнимавшие при этом всякую свободу;* далее их вводили в некую "табель о рангах",
являвшуюся полной противоположностью той, что действовала в армии, в
государстве. Согласно ей, например, юноша подпоручик Бестужев-Рюмин в ложе, или
в обществе, мог повелевать генералами. Представим только себе, сколь радикально
одно это могло изменить всю личность еще незрелого человека.*
* Бестужев-Рюмин заставлял членов общества "Соединенных славян"
на кресте клясться в верности тайному обществу; С.Муравьев-Апостол читал им
Библию, комментируя ее в революционном смысле. В других обществах на оружии
клялись, что сам ад не заставит их выдать товарищей, что до последнего вздоха
посвятят себя борьбе с тиранией.
** Труднее сказать, что заставляло генералов подчиняться поручикам.
Так обстояло дело с молодежью. Ну,
а где, спросим мы, были люди более зрелые, члены лож еще с екатерининских
времен, или, по крайней мере, с начала века? Они возникают на втором плане.
Таков, например, генерал-майор М.Ф.Орлов, создавший по возвращении в Россию в
1814 г. ложу под названием "Орден русских рыцарей". В том же 1825 г. ему было
38 лет. Он был членом Союза благоденствия, однако отделался лишь ссылкой под
надзор в свое имение. Говорят, будто бы его спас брат, оставшийся верным
правительству. Однако сам Николай I считал его одним из главных закулисных
виновников заговора, а великий князь Константин писал 14 июня 1826 года
Николаю: "Одна вещь удивляет меня - говорю тебе это прямо: именно поведение
Орлова, и как он сумел выйти сухим из воды и избегнуть суда".31
Вблизи декабристов снова возникает
фигура пресловутого Палена. Уже глубокий старик, он выступает в роли наставника
Пестеля. Версию о том, будто бы он отговаривал Пестеля идти путем тайного
общества, следует отвергнуть,32 памятуя о том, что мы уже знаем о
нем самом, или уж, по крайней мере, было бы неплохо узнать, что он предлагал
вместо этого. Их, несомненно, объединяло единомыслие, истинные корни которого,
наверное, никогда не будут вскрыты.
К старшему поколению масонов
времен Александра I принадлежали люди разного рода. Нам не хотелось бы как-то
однозначно их характеризовать, тем более, что мы не располагаем достаточным о
них знанием. Мы имеем в виду таких людей, как, например, Николай Тургенев или
Михаил Сперанский. Тургенев был сверстником Орлова и состоял членом его
"Ордена". Позже о нем говорили, что он обладал высшим в России градусом, и что
будь он 14 декабря в Петербурге, - выступление декабристов либо совсем не
состоялось бы, либо завершилось победой. Тургенев выступал против расширения
политических прав дворянства и главную свою цель видел в борьбе за отмену
крепостного права. Ему, несомненно, было известно многое не только из того, что
происходило в русских ложах, но и по всей Европе. Им была высказана одна
загадочная фраза. Страстно призывая к безотлагательной отмене крепостного
права, он мотивировал это тем, что "одному Богу известно, будут ли существовать
следующие поколения". Когда в 1822 году ложи в России были запрещены,
Н.Тургенев уехал за границу и остался там навсегда, поскольку после 1825 года в
России его ждал суд.
Граф М.М.Сперанский (1772-1839)
был известен как незаурядный государственный деятель. В ряде лет он являлся
ближайшим сподвижником Александра I - вместе они обсуждали планы
демократических преобразований в России, по инициативе Сперанского был создан в
1810 г. Государственный совет. Но через два года после этого Сперанский
неожиданно был отстранен от дел и выслан из Петербурга. Его принадлежность к
масонству не подлежит сомнению, и рассказывают, будто к нему
подходили с предложением примкнуть к заговору, а он ответил: сначала захватите
власть, тогда все примкнут к вам.
Стоит, наконец, сказать еще об
одном факте, неопровержимо показывающем, что старшее масонство и члены тайных
обществ были едины. Когда в 1817 году Александр I даровал Польше конституцию,
то Орлов был этим оскорблен, а намерение Александра I отделить Литву от России
едва не довело декабриста Якушкина до цареубийства. Нелегко объяснить столь
странное поведение людей либеральных и свободолюбивых. Но все становится
понятным, если мы узнаем, что в британских ложах мнение по польскому вопросу
было всегда однозначно: Польша должна оставаться под властью России, ибо в тот
день, когда она получит свободу, иезуиты превратят ее в свою республику.*
* Интересно, что в России это понимали и многие немасоны.
Итак, мы видим, что декабристская
молодежь была не одинока. Имелись некие "кулисы", откуда ее в той или иной мере
направляли более опытные люди. Среди этих последних прослеживается также
присутствие иезуитов, силы, ни в коей мере не несшей России добра. Это
прекрасно понимали русские люди уже в первой половине XIX в. Например,
В.Ф.Одоевский в своей статье "Недовольно", написанной в защиту И.С.Тургенева от
грубых нападок критики, говорит об иезуитах следующее: "...когда уже нельзя нас
упрекнуть ни в обожании рабства, ни в строгости наказаний, ни в отсутствии
земской самостоятельности, ни в господстве произвола и самоуправства ... когда
зреют в нас и нравственное чувство, и сознание человеческого достоинства, и
материальная сила, когда крепче сплотилось наше единство, - трусливая ненависть
Запада в крайних его органах, в этом сопряжении невольного невежества и
сознательной лжи, доходит до истинного безумия. Разумеется, не забывается
старое. По-прежнему является на сцену нелепая фабрикация парижской полиции,
известная под названием "Завещание Петра первого", на которое указывается как
на неоспоримое доказательство нашего неуклонного намерения завоевать всю Европу
и истребить в ней просвещение.**
** Примечание Одоевского: "Это говорится не в шутку, не в
карикатурных журналах, но с высоты и парламентских кафедр. - История этого
подлога довольно любопытна. Извлечение из мнимого завещания Петра I появилось
впервые в книге под названием Des progresез de puissanse russe depuis son origine jusqu'au comencoment du XIX siecle, par L**; 1 Vol . in 8, Paries, chez Fantin, libraire, Quaides Augustins,1812.". По году издания видно, что она издана в ту минуту, когда
Наполеон Бонапарт вторгался в Россию. Хитрому корсиканцу, неразборчивому на
средства, нужно было отвести глаза особенно Англии и для того возвести на
Россию небылицу. Сочинитель этой книги - Ленуар, французский полицейский
литератор. Знаменитый подлог находится в примечании к стр. 176 по 179 и
начинается словами: "уверяют, что существует (On assure qu'il existe ...)"; подлог был сделан так поспешно, что независимо от
других промахов, Петра I заставляют называть свою армию азиатскою ордою (стр.
14) и даже православных греков - схизматиками (стр. 12). Но для Запада это Все
нипочем; извлечение перешло, но уже в виде подлинного завещания, в
многочисленные книги и книжонки и распространилось на всем Западе. Достойно
внимания, что по непонятным причинам все издания, в которых находилось это
мнимое завещание, тщательно запрещались в России, так что для русских писателей
не было возможности ни добраться до текста этого документа, ни разъяснить
подлог. Между тем, эти издания по временам учащались па Западе, в особенности
перед Крымской войной, и вера в подлинность этого завещания так утвердилась,
благодаря нашему постоянному безмолвию, что во время войны один "благородный"
лорд в английском парламенте указывал на это мнимое завещание, как на ясный
повод к нападению на нас; это указание не осталось без действия не только на
общественное мнение в Европе, но и на самое решение парламента".
Есть на Западе город-памятник
(имеется в виду Рим), - памятник насилия, грабежа, гнета, всех родов
человеческого самоуправства и уничтожения; в древности там ковались цепи на
целый мир; но времена переменились; занесло песком следы рабской крови,
пролитой на потеху патрициев; на этом песке устроилось новоязыческое капище:
здесь иезуитизм открыл свою торговлю; его товар - человеческая совесть; здесь
он покупает, продает и променивает веру, правду, свободу совести, словом все,
что есть на земле святого; здесь дистиллируются тонкие, для всего мира, яды,
смрадный туман подымается от треножника преступной лаборатории; в этой душной
среде бродят позорные тени; здесь изуверы призывают благословение Божие на
отравленные кинжалы; здесь иезуиты с шляхтою обмениваются поцелуями;
полумертвый командир латинства, в бессильной злобе на нас, вместе с женолюбивым
кардиналом канонизирует изверга Кунцевича,* из-под кардинальской рясы сыплются
мириады лжей, сплетен, иезуитов, иезуиток и стараются облепить славянское
племя, разорвать его связи и задушить его. И в Россию проникает тлетворный
туман и... находит Иванушек, Репетиловых, княжен Зизи, Мими...". 33
* Кунцевич Иоанн (1580-1623) - архиепископ полоцкий, жестокий
гонитель православных белорусов; был убит восставшими жителями Витебска и в
1865 году канонизирован католической церковью. (Прим. редакции.)
В этом высказывании, а вернее
сообщении Одоевского сходятся в узел многие из тех нитей, о которых у нас шла
речь. Свою статью Одоевский закончил в 1867 году, положив в ее основу опыт
многолетних наблюдений. Материала для этого было достаточно. Сразу же после
поражения декабристов в Европе поднялась волна разжигания антирусских
настроений. Так, в 1835 г. литературный критик А. В. Никитенко записывал, со
слов вернувшихся со стажировки из Европы студентов, в свой дневник следующее:
"По словам их, ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая. ...Нас
считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают
это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества".34
Но особенно откровенно зазвучал голос иезуитизма во время Крымской войны.
А.С.Хомяков в одном из своих богословских сочинений приводит письмо Парижского
архиепископа Сибура, в котором тот говорит не более не менее, как следующее:
"...война (Крымская), в которую вступает она (Франция) с Россиею, не есть война
политическая, но война священная; не война государства с государством, народа с
народом, но единственно война религиозная; что все другие основания,
выставленные кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная причина
к этой войне, причина святая, причина угодная Богу, есть необходимость отогнать
ересь Фотия, укротить, сокрушить ее; что такова признанная цель этого нового
крестового похода и что такова же была скрытая цель и всех прежних крестовых
походов, хотя участвовавшие в них и не признавались в этом".** 35
** Здесь будет не лишним подчеркнуть, что во всем, сказанном нами
о ложах и иезуитизме, мы всецело опираемся только на указанные нами источники и
не хотели бы, чтобы это каким-либо образом приводилось в связь с обширной популярной
современной литературой на эту тему. Очень часто, несмотря на остро критический
характер, эта литература инспирируется теми же самыми источниками, о которых
она пишет. Нужно быть крайне осторожным, читая ее.
В революционных движениях иезуиты
придерживаются самых радикальных позиций и, когда дело доходит до гильотины,
начинают, так сказать, ловить нужную им "рыбу" в мутной воде. Не следует
заблуждаться насчет их принадлежности к Христианству. В чем тут заключается
дело, хорошо понял Достоевский, о чем свидетельствует его "Легенда о Великом
инквизиторе". Ныне же, благодаря "Томасу Мору" наших дней - Джорджу Орвеллу,
становится окончательно ясно, что в борьбе за власть над человечеством Великий
инквизитор готов сменить Иисуса на "Старшего Брата".
Иезуиты умеют основательно
заметать следы своей деятельности, но они все же остаются. В движении
декабристов мы замечаем их в Обществе Соединенных славян (панславизм - вообще
излюбленная сфера деятельности иезуитов). У истоков создания Общества стоит
шляхтич Юлиан Люблинский. Он явился идейным руководителем братьев Борисовых,
переориентировав их прежние моральные цели: усовершенствовать себя и "очистить
религию от предрассудков", - на революционное объединение всех славян. После
декабрьского восстания Люблинский получил три года каторги, несмотря на то, что
уже в 1823 г. был в цепях привезен в свое поместье в Новгород-Волынске за
участие в польском революционном движении. Братья Борисовы получили вечную
каторгу.
Декабрист М.С. Лунин был обращен в
иезуитизм самим де Местром.* Несмотря на это, он спокойно обретался в среде
масонов, но был, не в пример им, до аскетизма радикален, стоек и непримирим.36
* Об этом свидетельствует декабрист Г.С. Батеньков.
Такова в общих чертах была более
глубокая и более истинная расстановка сил в движении декабристов. Мы касаемся
ее ради двух целей: чтобы показать, в каких условиях действовал Александр I, и
чтобы представить себе, к чему свелось бы дело в случае победы декабристов. Их
намерения, как мы уже говорили, были во многом возвышенными и имели в виду
пользу России. Но иначе обстояло дело со средствами к их осуществлению.** Перед
декабристами еще живо стоял пример кровавого террора французской революции, и
они думали о том, как избежать его в России. По этому вопросу их взгляды
расходились. Пестель стоял за военную диктатуру, за немедленное уничтожение
всей царской семьи; князь С.П.Трубецкой был сторонником конституционной
монархии. Никто из декабристов вообще не представлял себе, какой должна была
стать верховная власть после переворота. Этому вопросу хотел посвятить 6-ю
главу своей "Русской правды" Пестель, но она так и не была написана. Против
военной диктатуры выступало все Северное общество; Никита Муравьев
категорически возражал против убийства царской семьи. Стоявший за республику
Рылеев говорил о Пестеле, что это "человек, опасный для России". А самому
Рылееву бывший с ним в дружбе Хомяков
доказывал, что все они "вовсе не либералы, а лишь хотят заменить единодержавие
тиранством вооруженного меньшинства", поскольку "всякий военный бунт
безнравственен".
** Хотя не все было возвышенным в намерениях. Так, в
конституционные планы Пестеля не входило наделение женщин избирательными правами;
он был против участия в перевороте солдат, т.е. народа. В идеальном обществе,
которое намеревались построить декабристы, Н.Муравьев считал полезным наравне с
изданием книг, газет, учреждением библиотек, ввести всеобщее доносительство;
Христианство предлагалось заменить некоей новой религией "Верховного существа";
накануне восстания В.К.Кюхельбекер делает набросок поэмы, герой которой -
человек-демон, циничный и гордый, и т.п.
Будучи не способны согласовать
свои взгляды по самым главным вопросам, декабристы начали обманывать друг
друга. В тайне от Северного общества Пестель принялся создавать в Петербурге
свою группу, которая бы не возражала против его идеи ввести военную диктатуру.
Вместе с Луниным он создал террористическую организацию цареубийц, куда вошли
члены Общества Соединенных славян - горячие сторонники терроризма. Руководство
тайных обществ сошлось на решении создать после восстания Великий собор и на
нем решить: быть ли республике или конституционной монархии, а одновременно с
этим Рылеев подучал Каховского пробраться тайком в Зимний дворец и убить
Николая I, и так поставить всех перед свершившимся фактом.
Вникая во все эти подробности
движения декабристов, приходишь к одному-единственному выводу: если бы их
выступление 14 декабря 1825 года увенчалось успехом, то в России началось бы
все то, что имело место во Франции, только масштабы были бы несравненно шире.*
Недаром Пушкин в заключение "Капитанской дочки" писал: "Не приведи Бог видеть
русский бунт, - бессмысленный и беспощадный. Те, кто замышляют у нас невозможные
перевороты, или молоды и не знают нашего народа или уж люди жестокосердные,
коим чужая головушка - полушка, да и своя шейка копейка". Но бунт и революция,
возразят нам, - вещи разные. Несомненно это так, если революцию понимать в
розенкрейцерском смысле. Каков он - об этом можно узнать у П.Я.Чаадаева,
который в связи с испанской революцией 1820 года сказал: "Революция,
завершенная в 8 месяцев, при этом ни одной капли пролитой крови, никакой резни,
никакого разрушения, полное отсутствие насилия, одним словом, ничего, что могло
бы запятнать столь прекрасное дело...".
* Но предположим все же, что совершив переворот, они удержали бы
террор в узде, что было бы тогда? Тогда Россия стала бы на капиталистический
путь развития, и к концу XIX века ей в мире не было бы равных по силе. Но этого
не допустили бы ни в коем случае, и потому у декабристов было два пути:
поражение или повторение якобинской диктатуры.
Ничего подобного не сулил
декабрьский переворот. А если так, то остается признать, что в случае победы
декабристов Россия не увидела бы ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни
Вл. Соловьева, одним словом, всей той могучей плеяды деятелей русской культуры
XIX в., без которой Россия уже не Россия. Была бы устранена сама физическая
основа для их возникновения.37
Исследователи обнаружили, что
восстание декабристов готовилось на более поздний срок. И это, видимо, так. Их
преждевременное выступление было вызвано действиями Александра I. Он, конечно,
знал все, или почти все о том, что готовится. Ясна ему была и его собственная
роль: подобно Людовику XVI, он должен был пойти на ряд уступок, способствующих
подготовке революции, в то же время заслоняя ее своей фигурой до нужного
момента. Он сделал попытку, подобно отцу, обуздать "безумие лож", наложив
на них запрет в 1822 г., но
нелегально работа пошла еще активнее. И тогда у него созрело решение уйти с
политической сцены и вообще потеряться в безвестности. Его брат Николай был
человеком более волевым, и Александр упросил его занять трон вместо старшего
великого князя Константина.* Последний не возражал, не находя себя способным на
предстоявшую борьбу.
* Имеется свидетельство, что Николай побледнел от испуга, когда
впервые услышал от Александра о намерении передать ему трон, а его жена едва не
упала в обморок.
Уход Александра спутал
заговорщикам все карты. Они поняли, что о постепенной подготовке революции без
Александра не может быть и речи (что они и не могли ему потом простить). Было
решено выступать немедленно и, если не сокрушить, то хотя бы сильно потрясти
режим.
Разгромив декабристов, Николай I
оказался в еще более трудном положении, чем Александр I. Деятельность лож не
была пресечена ни в малейшей степени. Революционное движение резко пошло в
гору. Крымская война со всей откровенностью обнаружила истинную расстановку сил
по отношению к России. Кроме того, во всех частях аппарата управления начинают
все сильнее проявляться инспирации двойника самодержавия, создавая новое
тотальное торможение во всей духовной и общественной жизни страны. Не выдержав
всего этого, Николай I покончил с собой. Его сын, Александр II, совершил,
наконец, освобождение крестьян, но был убит "борцами за демократию".
После восстания декабристов Россия
постепенно превращается в некий паровой котел, в который нагнетают пар,
закрывая при этом все клапаны. Такой характер принимает действие в ней
люциферических и ариманических сил, стремящихся помешать приходу шестой, славяно-германской
культурной эпохи. Их действие проходит через всю историю России в некоем ритме,
в котором их разрушительная сила, взаимозаменяясь, вторгается то извне, то
изнутри. В общих чертах этот ритм имеет следующий вид:

Наиважнейшая задача России состоит
в том, чтобы выйти из этого гибельного ритма, чтобы с твердой силой отстаивать
равновесие, свое положение середины, укрепляясь тем, что дает опору всему -
силой Христа. Универсальный принцип развития в эпоху души сознательной состоит
в том, что как целые народы, так и отдельный человек осуществляют в себе
равновесное отношение трех сил: влекущей от Земли к абстрактному духу силы
Люцифера, сковывающей в материи, привязывающей к земле силы Аримана и
удерживающей обе эти силы в равновесии, что делает человека гражданином двух
миров - земного и небесного, силы Христа.
Очерк VI
МИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
"0дно искусство воплощает в своих созданиях
то, что неведомо
присутствует в воздухе эпохи".
Аполлон Григорьев
Радикальная ломка устоявшихся
обычаев, привычек русской жизни, предпринятая Петром I, затронула, наряду с
политической и хозяйственной, также и духовную жизнь. Можно даже сказать, что
сдвиги, произошедшие в структуре духовного склада русских людей, были тем
главным, что принесли с собой реформы Петра. В течение краткого времени, всего
в треть столетия Петр начал самостоятельно править с 1689 г., а умер в 1725
г.), ему поистине удалось создать нового человека, правда, в очень тонком
социальном слое. Широко известно, к каким мерам пришлось для этого прибегать
Петру. Например, чтобы расшатать устои верований, этот "помазанник Божий"
создает пародию на церковную иерархию: "Всешутейный и всепьянейший собор", и в
кругу высшей государственной элиты (неважно, что туда проникал кое-кто из
низов) сам варварски юродствует и оскверняет святыни на виду у всех (в том
числе на виду и у Европы).
Разрушать - не созидать. Трудно
воспитать высокоморальную самосознающую личность. Развязать в человеке
низменные инстинкты, сделать из него нигилиста значительно легче, особенно если
санкционировать этот процесс на самом верху государственной власти. Правда, все
это не коснулось простого народа: ничего, кроме непомерных тягловых повинностей
и человеческих жертв, он не знал, но зато был избавлен от морально-нравственных
экспериментов царя. Однако, сколь бы ни был узок круг лиц, вовлеченных в
радикальные реформы, его роль в национальной жизни была огромна. Мы легко
поймем это, если признаем, что сама человеческая мысль есть деяние.
Дух-Водитель народа приходит в связь с народом через индивидуальные центры
духовной жизни. К ним же направляет свои инспирации и
люциферически-ариманический двойник государственности. Поэтому столь велика
роль интеллигенции в новой культурной эпохе. Предаваясь ложным, лишенным
жизненности идеям, она превращается в орудие "не созидания, а разрушения"
(А.С.Изгоев).
Начиная с XVIII в., с невероятной
быстротой в правящем и образованном слое русского общества совершается процесс
воплощения тройственной души. Сам по себе этот процесс не представляет чего-то
принципиально нового - мы уже достаточно говорили о нем в связи с истекшими
культурными эпохами. В новой эпохе, эпохе души сознательной, он охватил на несколько столетий раньше, чем в
России, все средне- и западноевропейские народы. Своеобразие русского пути
состоит лишь в том, что славянская культура ориентирована на отдаленную эпоху,
в связи с чем ей не подобает на западно-европейский манер входить в русло
современного культурно-исторического развития. Завоевание человеческой
индивидуальностью я-сознания обусловлено особым изменением эфирного и
астрального тел. В условиях материальной культуры они, принося плоды личности,
теряют свою пластичность, и из-за этого человек утрачивает связь с Самодухом.
Потому России надлежит с большой осторожностью перенимать плоды новой
цивилизации.
Петру I удалось местами разметать
очаги группового сознания с сопутствующей ему атавистической имагинативностью;
но поскольку его действия не были органичными, шли только от ума, то эмансипирующаяся
индивидуальность была вынуждена искать опору в готовых формах западного
рационалистического и материалистического жизневоззрения. В результате же не
получалось даже того, что имело место на Западе. Русский "вольтерьянец" XVIII
века тут же из всего делал моральные выводы и пытался строить на них свою
жизнь. Перед новой реальностью была поставлена сама Душа Народа, Существо из
Иерархии Архангелов. Возникновение индивидуальных центров я-сознания в среде
ведомого ею народа уже не позволяло и дальше инспирировать развитие таким
образом, что имело бы смысл говорить о действии Провидения. Перенимая западный
образ мышления, становящаяся русская интеллигенция одновременно брала на себя и
роль духовного водителя народа. Однако всецело западной она стать все равно не
могла. Иные были у нее корни, иной была и вся духовная предыстория. И вот мы
наблюдаем, как, начиная с XVIII в., инспирации Души Народа сталкиваются в
индивидуальных душах с искусственно насаждаемым в них рационализмом.
Иерархическое Существо стремится претворить зло в добро. Если прежде моральный
базис общества составляло духовенство и порой, надо сказать, с большим
мужеством отстаивало свою роль, не боялось, например, и Грозному Ивану указать
на его окаянства, то теперь, с конца XVIII в., поэт обращается с моральным
призывом к тем, кто, как и он, подведен к развитию я-сознания: Князь - коль мой
сияет дух; Владелец - коль страстьми владею; Боярин - коль за всех болею...
(Г.Р.Державин. Ода "Вельможам).
Так совершался процесс
секуляризации русской духовной жизни. Было бы более чем поверхностно видеть в
этом один только грех, как считают люди церкви. Подобные процессы захватывают
глубинные слои человеческого существа, и Божественные Иерархии ткут и живут в
генезисе душ, ставших на новый путь развития. Как это совершалось на русской
почве, мы можем наблюдать, изучая сам культурно-исторический процесс. Некоторые
его грани мы уже рассмотрели; теперь возьмем еще одну, наиболее "наглядную" -
изобразительное искусство.
Воплощение
тройственной души
В начале XX в. пытаясь
теоретически осмыслить новое искусство, В.В.Кандинский писал о живописи, что ее
следует строить по законам "внутренней необходимости", которые суть "законы
души". Рассудочные спекуляции лишь в новейшее время пронизали художественное
творчество. В прошлом же "сознательно или бессознательно художники следуют
словам Сократа: "Познай самого себя!". 38
Насколько верны эти слова
Кандинского, мы можем убедиться, рассматривая ранний период в истории русской
живописи. В нем то, о чем Кандинский говорит как о долженствовании, было
совершенно естественным состоянием, из которого всецело исходил в своем
творчестве художник. Рассматривая русскую живопись симптоматологически, можно
увидеть в ней выражение законов внутреннего душевного развития художника как
представителя своей эпохи. В новейшие времена созидание культуры стало иным;
иным оно было и в далеком прошлом. Но нас теперь интересует эпоха, в которой
тайна творчества была именно такова.* Соединение индивидуального духа со
свободным творчеством делает художника выразителем того, что "неведомо
присутствует в воздухе эпохи" (А.Григорьев). Поэтому истинный реализм всегда
является мистическим. Отождествление его с материализмом возникло лишь по
недоразумению. Создатели русской культуры в подавляющем большинстве своем
именно потому и были реалистами, что видели мир материально-духовным, т.е. в
его истинной реальности. Всякая попытка творить художественно и при этом
оставаться лишь в рамках материального - действительно понимающим себя
искусством может рассматриваться лишь как курьез.**
* Стоит ли говорить о том, что в остром противоречии с законами
творчества в новое время находится стремление так называемого поп-арта творить,
исходя из транса, в искусственно созданных экстатических состояниях
** Не следует при этом соединять принцип реализма с предметностью
в искусстве Вопрос предметности - это вопрос формы, а не характера искусства. И
беспредметное искусство может насаждать самые грубые и вульгарные формы
материализма, примеры чего мы встречаем в "архитектонах" суперматизма и в
многочисленных (но не многообразных) опытах современного псевдопластического
конструирования из отходов материальной культуры.
Русские художники XVIII и XIX
веков, выражая себя согласно законам художественного творчества, зримо явили
нам те глубинные спиритуальные процессы, которые сопровождали появление
самосознающей личности на арене русской культурной и общественной жизни. И
глубоко своеобразен был этот феномен. Мы уже говорили ранее о той душевной
конституции, из которой рождалась русская иконопись. Ясновидящим был древний
художник и копиистом сверхчувственных видений. До известной степени он
оставался таковым и в XVIII веке. Петровская ломка человеческой личности все же
не могла идти дальше верхнего слоя души и повседневного сознания. Лишь
постепенно этот процесс уходил вглубь. Вначале же, и особенно в сфере искусства,
мы встречаемся с конституцией души, находящейся в самой непосредственной
преемственной связи с предшествующими столетиями. Хотя и здесь мы должны
оговориться, что тот фарватер, в который
вошла Русь с начала
монголо-татарского нашествия, естественным никак не назовешь. Мы просто
вынуждены искать русскую суть как постоянно пребывающую между двумя
крайностями: люциферизированной склонностью к застою и ариманизированными
порывами к преждевременному предвосхищению грядущего. Но как бы ни был труден
этот поиск, только он имеет истинную познавательную ценность.
Итак, допетровская Русь,
Московское царство сдерживало национальное развитие, но это не было остановкой.
Постепенно и неуклонно русские входили в эпоху души сознательной. Одним из
главных симптомов наступления новых времен была утрата атавистического
ясновидения и поиск в искусстве, прежде всего в иконописи, эстетических начал.
Школа Рублева здесь явилась одновременно и венцом, и началом заката
традиционной иконописи. В последней начинают в дальнейшем все больше выступать
абстрактный символизм и жанровость. Вокруг евангельских и святоотеческих тем
выстраиваются все более сложные и многофигурные композиции. И хотя икона
по-прежнему носит имагинативный характер - ее цвет остается чистым, композиция
- двухмерной, - возрастающее присутствие на ней фигур чисто человеческого плана
приводит к появлению в XVII веке рода живописи, являющейся прямой предтечей
русского портрета. Это так называемая парсуна.*
* Слово происходит от искаженного "персона"
Взгляд иконописца по мере утраты
сверхчувственного созерцания все более обращается на окружающие земные объекты.
Только не стоит думать, будто художник XVII в. видел этот мир так же, как видим
сейчас его мы. Нет, его видение больше напоминало то, каким ныне обладает
ребенок. Как для ребенка лишь отдельные, немногие предметы выделяются на общем,
слитом в некое нейтральное единство фоне, так и тот художник выделял, различал
в своем окружении, прежде всего, лица, и то немногие, наделенные духовной
значительностью. Не следует брать это сравнение слишком буквально. Несомненно,
русские люди в XVII в. и даже много раньше вовсе не были детьми в своей
повседневной жизни. Но будничное в их сознании резко отделялось от
религиозного. Последнее сопровождалось сверхчувственными переживаниями и
поэтому было свято (а не из-за "первобытного" страха перед природой). Все
остальное, что не освещалось высшим опытом, имело более сумрачный вид,
изживалось в силах инстинкта и привычек. Художник, естественно, жил больше в
религиозном сознании, свой дар он видел приходящим свыше (и это ведь
соответствует действительности), и обращение его на вещи низшего мира было
равнозначно святотатству.
Лишь постепенное смещение центра
личности из группового в индивидуальное, что, с одной стороны, было вызвано
ослаблением сверхчувственного созерцания, а с другой - поднятием самой
личности, привело к тому, что в поле зрения художника оказался земной человек,
но как объект обусловленного божественным творчества. Поэтому и изображался он
по законам иконописи: двухмерно, статично, в обратной перспективе. О
психологической характеристике при этом, разумеется, не могло быть и речи.
Цвет, одеяние и все аксессуары должны были выражать чисто духовную динамику
"персоны".
Поскольку же ее духовная высота не
могла идти ни в какое сравнение не только с Божественными Существами, но даже с
известными подвижниками, то духу художника открывался образ, так сказать, с
малой внутренней светимостью, и потому парсуны по цвету были несравненно беднее
икон; переживание колорита - это тоже ступень, к которой не сразу пришел
индивидуальный дух художника.
Приведем лишь один, но характерный
образец парсуны(46). Мы видим на ней человека с полным, одутловатым, несколько
болезненным лицом. Земные наклонности его природы несомненно преобладают над
духовными. И тем не менее, для художника XVII века он - личность, т.е. ему
присуще, пока еще неведомым для художника образом, нечто от черт высоко
духовных существ.
Такова парсуна. Но то, что
выступает в XVIII веке как портрет, имеет большее от нее отличие, чем ее
собственное отличие от спиритуальной иконописи. Произошло это не без помощи
извне. Несомненно, русская живопись пришла бы к портрету своим собственным
путем, но Петр I и здесь ускорил естественный ход развития. Он начал приглашать
в Россию художников из Европы и заставлял русских живописцев учиться у них.
Небольшая группа одаренной молодежи была отправлена, за казенный счет,
перенимать мастерство живописи за границей. В результате в течение одного-двух
десятилетий был сделан скачок длиною, по европейским масштабам, примерно от
Джотто до Ван Дейка. Только не следует при этом думать, что до Петра у нас
успел возникнуть свой Джотто, а после Петра - Ван Дейк. Нет, мы имеем в виду
лишь характер того развития, в которое окунулась Россия, а не его содержание,
которое долгое время оставалось весьма скромным.
Из заграничных стажеров заметный
след в истории русской живописи оставили двое: И.Н.Никитин и Андрей Матвеев.
Ныне с достоверностью установлены только две работы кисти Никитина, одна из них
- портрет дочери Петра I Анны (167). Работ Матвеева сохранилось больше. Особой
известностью среди них пользуется "Автопортрет с женой Ириной", дочерью
художника Антропова (168). На что в этих двух портретах следует обратить особое
внимание? Тот, который принадлежит кисти Никитина, написан им до поездки за
границу, и потому свидетельствует о самобытном даровании художника. Внимательно
вглядевшись в портрет,* мы можем различить в нем целый ряд черт парсунного
письма. Прежде всего бросается в глаза плоскостность изображения. Открытые
части тела даны одним пятном. И даже резкая тень, данная по контуру
изображения, не создает впечатления объемности. Волосы совсем не прорисованы и
носят условный характер. Окутывающая плечи мантия никак "не хочет" уходить за
спину, а напротив, стремится "вывернуться" на зрителя (особенно слева) в обратной
перспективе, увлекая за собой и плечо. Поза, выражение лица, внутреннее содержание
портретируемой совершенно неподвижны. Зато многоговорящим является цвет. Алая
мантия приводит на память краснофонные иконы. Это живой цвет, динамика которого
подчеркнута белыми мазками, своим происхождением восходящими к иконописным
"пробелам". Внутреннюю жизнь излучает кожа лица и груди.
* Что, надо сказать, сделать теперь совсем не просто. Ранние
русские портреты сильно потемнели, многие из них взяты под стекло; кроме того,
они часто очень плохо освещены, тогда как самым важным в них является именно
цвет. Несмотря на все их несовершенства, они написаны чрезвычайно тонко, о чем
мы еще будем подробно говорить.
Мы не знаем, где и у кого учился
Никитин до своей поездки за границу. Скорее всего, он работал в какой-нибудь
артели иконописцев, как это делали почти все художники той эпохи. В то же
время, мы видим, что от кого-то перенял он и приемы светского письма. А чем
объяснить элементы парсуны в совершенно светском портрете? Являются ли они
стилистическим приемом Никитина или свидетельствуют о его неумелости? Скорее
всего - ни тем, ни другим, а непосредственным видением самого художника.
Несмотря на решительное обращение к светским сюжетам, видение первых русских
портретистов содержало в себе некоторую долю сверхчувственного опыта. Этот
опыт, правда, уже "дотлевал", едва брезжил при обычном взгляде на мир, но
довольно определенно заявлял о себе, когда художник работал с цветом. Этот же
опыт долго мешал ему пережить трехмерность физического пространства.
Когда мы говорим о русском
портрете, впервые возникающем в XVIII в., то следует учесть, что Европа к тому
времени имела своих живописных гениев уже в прошлом, среди них и крупнейших портретистов:
Дюрера (1471-1528), Рубенса (1577-1640), Ван Дейка (1599-1641), Рембрандта (1606-
1669) и др. Приезжавшие в Россию иностранные художники, такие, как французы
Токке и Каравакк, итальянцы Пьетро Ротари и Торелли, австриец Иоганн Лампи,
Георг Гроот из Штуттгарта, несмотря на всю посредственность их мастерства,
несли в себе это мощное художественное наследие Европы. Русские художники - и
это не нужно доказывать - многому учились у них, настолько многому, что,
например, художники и критики, группировавшиеся в начале XX века вокруг журнала
"Мир искусства", такие как А.Бенуа, Н.Врангель и др., видели в раннем русском
портрете одно лишь механическое заимствование черт культуры Западной Европы.*
Но если бы это было так, то взору нашему предстала бы картинная галерея
эпигонов посредственности. Однако такой галереи в русском искусстве нет, и это
тоже не требует доказательства. О русском портрете XVIII - первой половины XIX
века можно сказать словами поэта Жуковского, перефразируя их: почти все в нем
чужое или по поводу чужого - и все, однако, свое. Своим в нем является главное:
собственное видение мира художниками, составляющее основу всякого оригинального
творчества. Благодаря этому видению художники создают нечто совершенно
неповторимое: симптоматологический портрет, раскрывающий нам процесс воплощения
русского индивидуального духа.
* Современные искусствоведы, напротив, всячески стараются
затушевать роль иностранных учителей, но делают это скорее из патриотических
соображений, чем из духа истины.
Итак, отметим еще раз: элементы
иконописи, встречаемые нами в портретах XVIII в., объясняются присутствием
ясновидческого опыта во взгляде художников того времени на мир. Это особенно
трудно понять в эпоху, когда искусство пронизано
позитивизмом, идеологией и заранее знает, что и как ему следует изображать.*
Старый русский живописец шел новыми, неведомыми ему путями. Искусство для него
было средством познания и мира, и себя. И как путеводитель не способен заменить
непосредственное знание страны, так и иностранные учителя не могли дать
русскому художнику непосредственного переживания той 1егга тсо§ш1а, какой
представал ему мир становящейся земной индивидуальности. Мы еще не раз будем
иметь случай убедиться в этом. Однако и сейчас стоит сравнить портрет Никитина
с автопортретом Матвеева (167), чтобы почувствовать отличие видения от узнания.
У Матвеева есть все, чему учили художника в Италии: и усложненная композиция
двойного портрета, и динамика формы, и некоторая, пусть условная, душевная
экспрессия, и знание законов колорита, дополнительных цветов и т.д. Но чего в
портрете нет - это сверхчувственного переживания цвета. Поэтому краски у
Матвеева выглядят словно остывшими по сравнению с работой Никитина.
* Этот процесс зашел так далеко, что учитель, обучающий маленьких
детей рисованию, не способен понять, почему это ребенок не может "так просто"
научиться изображать перспективу и упорно "выворачивает" все в двухмерность.
Русская живопись не пошла тем
путем, который ей хотел предначертать Петр I. Не помогли тут никакие учителя.
Копировать с иностранных образцов научились, когда же обращались к творчеству,
получалось нечто совершенно другое. Прежде всего, не давался жанр. Тот же
Матвеев в 1703 г. не решался взяться за порученные ему батальные сцены,
отговариваясь тем, что писать их "непочем", то есть нет гравированных образцов
для копирования.
Долго не могли овладеть русские
художники перспективой, несмотря на то, что уже неплохо владели многими
приемами европейской живописи. Здесь нам предстает широкое поле опытов и проб,
от детски-наивных, как, например, у одного малоизвестного художника
Г.Островского (47), до вполне зрелых, с чертами несомненного мастерства. К последним
следует причислить портреты крепостного художника Вишнякова (1699-1761). В них
видны все те черты иконописности, которые мы видели на портрете кисти Никитина.
Вишняков напрасно пытается с помощью внешних приемов, которыми он владеет
весьма слабо, личностно охарактеризовать портретируемого. Так, на портрете
М.С.Бегичева (169) он дает поясное изображение, но при этом лишь обнаруживает
полное неумение изображать у модели кисти рук (весьма красноречивая деталь); а
засунутая подмышку шляпа нарушает пропорции всей левой руки. В то же время, как
этот, так и другие портреты у Вишнякова чаруют своей непосредственностью,
легкостью, почти нематериальностью, имагинативностью (170), оставаясь при этом
портретами вполне конкретных людей, исполненных внутреннего содержания и порой
многообразной игры душевных сил.
Приведем еще один интересный
пример "борьбы" русских художников за перспективу. Это портрет П.Жемчуговой
(48) работы Николая Аргунова, сына более известного художника Ивана Аргунова. В
нем, как на иконе, перспектива каждого предмета имеет свою точку схода. В одних
местах глубина как будто бы возникает, в
других изображение буквально "встает на дыбы", не желая удаляться от зрителя:
часть кресла слева, цветы и узоры на ковре. Не помогает делу даже использование
таких, казалось бы, богатых по своим изобразительным возможностям аксессуаров,
как красный в черную полоску пеньюар, колонна с канелюрами. И только белый
платок на красно-черном фоне действительно объемен.
Даже на портретах одаренного и
вполне самостоятельного художника А.П.Антропова (1716-1795) мы замечаем
парсунную плоскостность и застылость формы. Этот художник происходил из семьи
солдата, учился у Матвеева, Вишнякова, Каравакка, писал иконы. Для его
портретной живописи характерно стремление выразить социальные типы
современников, но мы совершим ошибку, пытаясь понять это в современном смысле
слова. Те, кто это все же делает, упрекают художника в лести, в стремлении
приукрасить модель; другие, напротив, видят в нем даже некоего изобличителя.
Портреты кисти Антропова поражают
какой-то, совершенно особой "осязательностью", повышенным "присутствием" в
трехмерном пространстве созерцающего их зрителя. В то же время, это совсем не
тот реализм, который мы встречаем у петровских стажеров и у Каравакка. Нужно довольно
долго вживаться в них, чтобы раскрылась их главная тайна, их, скажем,
профеномен. Но когда он раскрывается, то не остается сомнений в том, что
основное, чем образуется все единство и своеобразие портретов Антропова, - это
полусверхчувственное переживание художником жизненных, или эфирных сил.
Интересна одна из первых работ Антропова - парадный портрет императрицы
Елизаветы Петровны (49). Портрет не оригинален - он срисован с подлинника кисти
Каравакка, но его колорит всецело принадлежит Антропову. Не только инкарнат
человеческой кожи, но и роскошные одеяния императрицы, красный пуфик, на
котором лежит императорская держава, - все производит впечатление одушевленной
материи.
В дальнейшем в колорите Антропова
красно-желто-коричневая гамма отступает назад, а доминировать начинают зеленые
тона, сине-зеленые или холодновато-синие. Мы поймем, почему это происходит,
если вспомним слова Р.Штайнера о том, что зеленый цвет - это "мертвый образ
жизни", а синий - рождается в умирающей природе.
Антропов переживал остатки уходящих сверхчувственных созерцаний. Он переживал
эфирные силы не в их стихии, а с этой, земной стороны, где они открываются в
своем упадке, вызванном процессом индивидуализации. Оттого на его портретах
преобладают пожилые люди. Тогда меньше мешает игра душевных сил, выражающаяся в
красочной ауре. Белила, румяна и сурьма на старческих лицах - не просто дань
моде. Художника интересуют как проявления самих жизненных сил, так и их
имитация. Он дает то и другое в сопоставлении (171 -173).
Взгляд у антроповской модели
всегда обращен вовнутрь, но это не психологическая углубленность, а
концентрация на одном - на жизненном процессе; потому все портреты несколько
похожи один на другой. Антропов даже не пытается дать индивидуальную
характеристику портретируемого лица, а только состояние жизненных сил,
приходящих в человеке по мере возмужания в упадок. Узоры, складки на одежде,
отмеченные "пробелами", выражают не душевные движения, а
течение жизненных сил, как на иконах. В одном случае, как на портрете
Д.И.Бутурлина (172), они идут одним образом, в другом (173) - иным. Все это
нужно просто созерцать.
На портретах кисти Антропова
преобладает контур, ибо жизненные силы человека образуют единое силовое "поле".
Это-то "поле" и делает их повышенно осязаемыми.
Недостаток творчества Антропова
видят в неспособности художника оторваться от модели. Но так говорить о нем
просто бессмысленно. Ибо главное у него состоит в том, что в прямом смысле
слова он верен трансцендентальному образу модели: характеру ее жизненных сил.
Интересно сравнить Антропова с Ф.С.Рокотовым. Оба они писали портрет Петра III.
У Антропова царь изображен тщедушным до карикатуры (50). Некоторые
искусствоведы усматривают в этом критику художником режима. Если бы нечто
подобное было нарисовано в наше время, то так бы это и было, но абсурдно
экстраполировать современные представления на XVIII век. Будь это так,
Антропова за портрет Петра III постигла бы участь Радищева. Но в
действительности дело обстояло совсем иначе. В то время не только художники, но
и вообще многие русские люди ощущали нечто, идущее от внутренней природы
человека, и мало разбирались в том, что теперь называют психологией личности.
Антропов почувствовал в Петре III, как главное, что у него сильно подорваны
жизненные силы. Это он и изобразил. Современники поняли его, ибо подобное же
чувствовали в Петре III и сами. Таким было тогда понимание жизненной правды.
Говорить об Антропове в том духе, что он "еще не стремился отразить в своем
творчестве волновавшие умы современников идеи о достоинстве человека", означает
впадать в материалистическую фантастику, не имеющую ничего общего с реализмом
подлинной жизни. Нам, может быть, возразят, что подобного рода цели ставила
себе современная Антропову литература, например карамзинский сентиментализм. Но
ведь живопись и литература - это разные виды искусства. В какие-то периоды
живопись может быть и описательной, как литература. Однако не это составляет ее
главную цель. В литературе же все, что носит откровенно дидактически-назидательный
характер, как правило, малохудожественно. Говоря так, мы не пытаемся отстоять
права "искусства для искусства", но - задачу искусства творить из чисто
художественного, а не из рассудочного элемента. Что уже ясно уму, то незачем
рисовать, более того - незачем рисовать то, что можно описать словами. Поэтому
русская живопись XVIII века выражала невыразимое в то время какими-либо иными
средствами, а значит, она была истинно художественной.
На портрете Петра III кисти
Рокотова (174), то же самое лицо подано совершенно в ином духе. Рокотову, как
кажется, вообще нет дела до жизненных сил, его занимает по преимуществу то, чем
движется человеческая душа или даже дух. А с этим, о чем свидетельствует
портрет, у Петра III все обстояло благополучно.
Ф.С.Рокотов (1735-1808) был, по
сравнению с Антроповым, художником совершенно иного склада. Он происходил из
семьи или мелких дворян, или разночинцев (точно не установлено). Одаренного
мальчика заметил М.В.Ломоносов и рекомендовал его
графу И.И.Шувалову, ведавшему художественным образованием в России. Далее о
Рокотове известно, что большую часть своей жизни он провел в Москве, был членом
английского клуба, в 1765 г. удостоился звания академика С.-Петербургской
Академии художеств. Из учителей особое влияние на него оказали В.Ротари и
Л.Токке.
Рокотова, как и Антропова,
упрекают в лести, лживости и украшательстве; статичность его образов объясняют
влиянием Антропова. О нем пишут, что он подгонял портрет под избранный им тон и
в угоду колориту жертвовал правдой. Однако на самом деле тайна творчества
Рокотова в том, что основной профеномен его творчества составляет обостренное
переживание художником человеческого астрального тела.
На переходе к эпохе души
сознательной, к эпохе материальной культуры астральные тела русских людей не
испытывали того упадка, который охватил их жизненные тела.* Кроме того, сама
природа астрального тела иная, чем эфирного. По мере своего просветления
субстанция астрального тела образует душу ощущающую, душу сознательную и,
наконец, Самодух. Рокотов имел некоторое переживание овевающего человека
Самодуха. В иконописи, как мы помним, только присутствие Самодуха делало объект
достойным изображения. Однако не следует думать, что столь высокие индивидуальности
окружали Рокотова в жизни. Нет, он, как и Антропов, был трансцендентально верен
модели. Изображению того высшего, которое незримо осеняет каждого человека, и
подчиняет Рокотов все свои художественные средства, а вернее сказать, он лишь
следует полной правде открывающейся ему жизни. Те, кому она открывалась лишь
частично, со стороны материальной, находили художника загадочным.
* Вспомним, что по этому поводу говорил летописец (Кн. I, оч. IV).
Имагинативное видение делает и
портреты Рокотова несколько плоскостными, статичными (175), но ни у кого из его
предшественников нет столь подвижной игры цвета, когда целые колористические
композиции переливаются одна в другую, и тем не менее все остается целостно
организованным (176). Рокотовские портреты, особенно зрелой поры творчества,
окутывает некая дымка, напоминающая леонардовское "сфумато"; у некоторых из
персонажей слегка прищурен взор, на устах играет легкая полуулыбка. Вся
цветовая игра выражает собой именно астральную ауру человека. Даже румянец на
лицах - признак не здоровья, а душевного подъема.
Среди работ Рокотова особенно
выделяется портрет - В.Е.Новосильцевой (177). В жизни это была обыкновенная
барышня, выпускница Смольного института благородных девиц, который закончила с
серебряной медалью. На обратной стороне портрета имеется ее собственноручная
надпись: "Портрет написан рокотовым** в Москве 1780 году сентябре 23 дня а мне
от рождения 20 лет шесть месяцев и 23 дны". На портрете же нам предстает некое
полубожественное существо, на миг одарившее Землю своим явлением. И все-таки не
следует винить художника в приукрашивании. Человеческий Самодух - житель
горнего мира. Некогда он станет индивидуальным достоянием людей, и они будут "как
Боги". Но пока что сверхиндивидуальное лишь в лучшие минуты жизни осеняет
человека, и потому в своем высшем Я люди пока не столь дифференцированы как в
низшем. По этой причине портреты у Рокотова так же, как и у Антропова, похожи
друг на друга. Он пытается характеризовать портретируемого цветом, аурическим
цветом, и ясновидящий, возможно, увидел бы много индивидуального в каждом
портрете, нам же открываются лишь их колористические различия.
** В XVIII веке фамилию еще писали с маленькой буквы, что же
касается остального текста, то нам лишь остается сказать: таковы были наши
медалисты в том веке.
Рокотова не особенно интересует
возраст портретируемого, ибо для него это чисто внешний аксессуар. В галерее
его работ преобладают женские образы, и это понятно - у женщины душевная жизнь
ярче. и подвижнее, чем у мужчины.
Творчество Рокотова не так
однозначно, как у Антропова. В нем интересно было бы рассмотреть отдельные
периоды. Но мы, как и прежде, дабы наш очерк не стал чрезмерно громоздким,
ограничимся лишь выявлением наиболее значительных профеноменов русской
культуры, становление которых мы уже проследили в предыдущих очерках.
Заканчивая рассмотрение творчества
Рокотова, необходимо еще сказать, что в нем находят большое влияние
французского рококо. Формально это соответствует действительности. Но если
французский портрет XVIII в. весь идет от ума, художники сознательно
отказываются от передачи индивидуальных черт в пользу внешней красивости,
галантности, изысканности, то ничего подобного мы не находим у Рокотова.
Красота его образов нисходит на них как бы свыше. Еще у Рокотова находят много
общего с английским художником Гейнсборо (1727-1788). Здесь, правда, о
заимствовании говорить трудно, ибо Рокотов не был за границей и вряд ли видел
портреты Гейнсборо в то время в России - ведь оба художника были
современниками, а культурные связи России с Европой развивались медленно. Тем
не менее, что-то общее у них действительно есть (51). Более того, необходимо
признать наличие определенного сходства у Рокотова и с Томасом Лоуренсом
(1769-1830).* А причина этого кроется в том, что оба английских художника,
подобно Троллопу в литературе, выражают в живописи душу сознательную, какой она
себя изживает в английских леди и джентльменах. Душа же сознательная является
тем членом души, в который нисходит Самодух. Так соприкосновение с миром
Самодуха образует нечто родственное в творчестве английских и русского
художников. Но, значительно превышая сходство, встают между ними различия. И
то, и другое мы без труда видим сами, сопоставляя их произведения. На полотнах
Гейнсборо и Лоуренса нам предстает, хотя и в малой степени, но уже воплощенным
в человека то высшее, что пока еще как греза овевает образы Рокотова.**
* Если не концентрироваться на прозрачной и холодноватой ясности
его красок, а взять тот налет сверхиндивидуального, которым Лоуренс наделяет
своих персонажей.
** Предлагаемые читателю немногие репродукции вряд ли могут
служить достаточным подтверждением сказанного здесь и ранее. Это не более, чем
знаки. Необходимо увидеть и пережить подлинники.
Среди русских художников особенно
близко к творчеству Рокотова стоит В.Л.Боровиковский (1757-1825). Его
портретные образы (за исключением позднего периода) подернуты, как и
у Рокотова, легкой дымкой, отчего контур делается расплывчатым и сливается с
фоном. Тонкая цветовая гамма, мягко светящаяся изнутри, придает форме почти
бестелесную легкость. И в то же время образы Боровиковского более определенные,
земные, чем у Рокотова. Причина этого станет нам ясна, если мы сможем увидеть,
что доминантой в художественном видении Боровиковского является субстанция
астрального тела, но не в ее высшем выражении как Самодух, а в первом душевном
элементе человека, где она образует душу ощущающую. Этим последним
обстоятельством и объясняется отличие Боровиковского от Рокотова.
Небесполезно, на наш взгляд, для
понимания творчества Боровиковского, знать кое-что о его жизни. Он родился на
Украине, в Миргороде, хорошо известном нам по сочинениям Гоголя. Этот край в то
время обладал самоуправлением, осуществлявшимся казацким старшиной. Это
сословие приравнивалось к дворянству, и из него происходил отец Боровиковского,
служивший в миргородском казачьем полку, где он одновременно исполнял
обязанности и чиновника "по письменным делам", и полкового живописца. Сын пошел
по стопам отца: служил в том же полку и интенсивно занимался живописью. Но
дарование у сына было выше, чем у отца. Его потянуло в большой мир искусства, и
в 1788 г. он перебрался в Петербург.
Ранее мы уже говорили о том, что
казачество было тем своеобразным явлением, в котором после заката Новгорода
ожила северорусская душа ощущающая. И, конечно, не лишено значения в какой
среде живет и воспитывается художник. Известно, что Рокотов стремился жить в
Москве, и в конце концов там и обосновался. Боровиковского, напротив, потянуло
в Петербург с его утонченно-нервной художественной атмосферой, где и внешние
условия жизни в наибольшей мере соответствовали импульсу, который Художник
выражал в своем искусстве
Если мы говорим, что душа
ощущающая является профеноменом творчества Боровиковского, то нам должно быть
понятно, почему через все его портреты проходит единый тип, придавая им некую
схожесть, благодаря чему мы всегда безошибочно узнаем его произведения.
Примечательно писал об этом в 1907 г. художник С.Маковский. Он обнаружил у
Боровиковского стремление живописать "индивидуальные признаки как изменение
основного типа", который - "не вымышленный, не условный даже, а живой, реальный
тип эпохи".39 Столь глубоко умеют всматриваться в жизнь художники и
понимать друг друга, общаясь сквозь века на языке творчества!
Человек, отвергающий
сверхчувственную тайну творчества, легко впадает в субъективность. Даже
восприятия его могут быть обмануты доводами ума; если не своего, то чужого. Но
кто способен свободно отдаваться эстетическим переживаниям, вместе с
доставляемыми ими чистыми наслаждениями приобретает и познания. Стоит лишь
однажды уловить имагинативную "подсветку" цвета, вносящую в него жизнь, и уже
трудно оторваться от красочного очарования технически пусть не всегда
совершенных портретов Антропова, Рокотова, Боровиковского и других их
современников. Но их творчество важно для нас и по другой причине. Оно
раскрывает, делает зримым тот спиритуальный процесс, который совершался за
кулисами внешней общественной и культурной
жизни России XVIII века. Радикальная прививка Петром России западного
позитивизма вызвала к жизни рассудочные формы культуры. Платой же за это было
интенсивное ослабление эфирного тела у тех, кто к этим формам приобщался.
Разрушение гармонии эфирного тела вызывало, в свою очередь, диссонансы в
индивидуализировавшихся переживаниях астрального тела. Высшая его часть стала
отторгаться. Рокотов по сути изображал не нисходящий, а уходящий от человека Самодух,
который осенял русскую жизнь со времен возникновения духовного братства
Киево-Печерского монастыря. В массе простого народа он продолжает действовать и
поныне как инстинктивная мудрость. Но, так сказать, передовая часть русского
общества пережила в XVIII в. некоего рода "изгнание из Рая" этой мудрости. Не
понимая, что произошло, она вдруг оказалась на каменистом "острове" рассудочно
переживаемой самодостаточности индивидуального земного бытия. Следствием этого
явилось катастрофическое падение нравов, особенно ярко выразившееся при дворе
Екатерины П. Словно "защемленное" потерявшим былую пластичность эфирным телом,
астральное тело диссонансом, необузданно устремилось к низшей чувственности.
То, что прежде инстинктивно заявляло о себе как "пламя вожделений" и
сдерживалось силой группового сознания, заповеданной нравственностью, теперь
вырывается наружу и принимает рафинированный, отталкивающий характер в
осмысленных вожделениях души.
Однако наравне с этим в ауре
русского народа действовали и исцеляющие импульсы. Они находили своих
выразителей в человеческой среде и через них закладывали основы индивидуально
осмысленной морали. Примерами такого их действия могут служить: поэзия
Державина, характер научной деятельности Ломоносова, литературные и исторические
сочинения Карамзина (XIX века мы сейчас не касаемся) и др. Нравственный пафос
новой культуры, несомненно, уступает деяниям и творениям святых отцов, однако
не следует и недооценивать этих первых вестников самосознающей души: Придет
время, и обоснованная лишь в индивидуальности мораль станет сильнее, чем
прежняя, групповая. Но и первые ее проявления принесли заметные плоды. Мы
видим, как под влиянием культурных импульсов к концу XVIII в. гармонично и
уверенно выступает душа ощущающая, певцом которой и становится Боровиковский.*
Все, что предстает нам на его портретах, - это различные проявления души
ощущающей как основного члена индивидуальной душевной жизни.
* Это не значит, что диссонансы с тех пор исчезают из русской
жизни. Напротив, на разные лады они растут и множатся с тех пор. Но все
передовое в развитии всегда начинается с малого и лишь постепенно охватывает
весь культурно-исторический процесс.
Не следует думать, что
Боровиковский делал это сознательно. Нет, он самовыражался, с помощью кисти познавая
мир. Каждый портрет был для него своего рода духовнонаучным исследованием
проблемы: что составляет тайну человеческой личности? Мы же, изучая его
творчество, констатируем: художник не находил в своих современниках более, чем
душу ощущающую, но зато сколь многообразно выразил он ее явление! Вот она в
виде задорной пастушки с яблоком в руках (52). Что это, намек на спор трех
Богинь, из-за которого погибла
древняя Троя, или на саму прародительницу человеческого рода? Мила человеку его
душа ощущающая, но и беды от нее не оберешься. А вот она еще только
пробуждается, вялая со сна, с припухшими веками (178). Ей близки незамысловатое
искусство, общение (53). Но она не вечно юна, у нее есть и старческий облик
(54). Кто изображен в этой аллегории зимы, уж не русский ли Вяйнямёйнен?
Но в своем наинепосредственнейшем
выражении душа ощущающая дана Боровиковским в портрете М.И.Лопухиной (179) -
вершине творчества художника (у Рокотова таковой является портрет
Новосильцевой). Какова она, русская душа ощущающая?* Ей свойственна
мечтательность, не в виде необузданных фантазий, мыслительной деятельности, но
в образах. Она нуждается в земной опоре, знает прозу жизни и ведает печаль;
сумрак земной жизни ей хочется пронизать светом уже далеко отодвинувшегося от
нее горнего мира. Это сочетание сгущающейся земной тьмы и небесного света,
которое мы видим на портрете Лопухиной, встречается на большей части портретов
Боровиковского, только не следует это объявлять штампом. Художник просто верен
своей художественной интуиции, а она ему подсказывает, что душа ощущающая, в
силу своей астральной субстанции, является жительницей звездных миров. Для нее
физически-эфирная телесность, ее земное обиталище, представляется как некая
темная пещера. Поэтому столь часто фон портретов сохраняет определенную
последовательность: световоздушная среда, потом растительная и, наконец,
минеральная.** Боровиковский чувствует это настолько точно, что в портрете
старика (54) то, что должно служить выражением жизненных сил, дано в виде
засохшей ветки и оледенелого края пещеры, вслед за которым без перехода
начинается неувядающее синее небо. Такова старческая конституция души.
* И.Э. Грабарь сказал о Боровиковском, что он "ни на кого на Западе
не похожий и в высшей степени русский".
** Все это, разумеется, выражено
художественно, а не символически.
Интересная разработка фона дана
Боровиковским на портрете генерал-майора Боровского (55). Генерал изображен
сидящим под деревом, а справа от него, в отдалении идет штурм крепости.
Поскольку война - это искусственное разрушение жизненых сил, то душа ощущающая
ставится этим в совершенно особые условия. Поэтому не случайно мундир генерала
оторочен мехом - символом животной природы человека. Не дав ей воли, нельзя
вести войну. Принцип реальных жизненных сил война подменяет искусственным - это
выражает султан на кивере: о воинской славе, а не о жизни должен думать солдат,
ею должен он жить. Но для души как таковой, ясна вся противоестественность
войны, и она стремится выйти из этого состояния, взывая о помощи к разуму.
Поэтому генерал сидит подчеркнуто прямо, а его умное и благородное лицо
обращено от военных действий к какому-то невидимому, отдаленному объекту; в то
же время несколько женоподобный тип лица обнаруживает душу ощущающую как
основной элемент внутренней жизни изображенного на портрете человека.
Говоря подобным образом о
портретах Боровиковского, да и других старых русских мастеров, мы понимаем
насколько трудно принять это человеку, живущему материалистическими
представлениями. Глядя на портрет того же Боровского, он скажет: причем тут все
эти сложности, когда генерал просто изображен в мундире, а война на заднем
плане дана для того, чтобы указать на его профессию. Против таких аргументов трудно
возражать. Ведь принято же теперь рисовать крестьянина на фоне полей, ученого -
с атрибутами его научной профессии и т.д. Но если таково последнее слово
искусства, то остается лишь признать его даже не служебную, а подсобную роль
иллюстратора "нужных" идей в материальной жизни человечества.
К счастью, дело обстоит не столь
примитивно. Мы знаем, что бессчетное число раз яблоки падали на землю до
Ньютона, а люди погружались в ванны до Архимеда, но к открытию законов природы
это не приводило. Теперь же, когда они открыты, каждый школьник знает о них,
однако от этого ни Архимедом, ни Ньютоном он не становится. Подобным же образом
обстоит дело и с истинным искусством. Оно всегда открывает нечто новое,
благодаря гению художника. И именно это важно в нем, а не перепевы последующих
эпигонов. Но чтобы понять тайну сотворенного, необходимо найти подступ к
пониманию тайны творчества. Художник творит из интуиции. И нужно научиться
отличать их от имитаций уже открытого, когда просто подбирают ряд нужных
предметов-символов и пользуясь ими изображают на общедоступном уровне любые
идейные построения.
Однако обратимся еще раз к
портрету генерала. Если посмотреть на него глазами позитивиста, то тогда
придется сказать: кивер с султаном - просто неудачная деталь, лучше бы заменить
его спинкой походного стула. А что это за палка в руках генерала? Он что,
собирается стать подвижником? Кому не ясно, что генерал должен опираться на
саблю? Никуда не годится и меховая оторочка на мундире, когда фоном служит
летний пейзаж, и т.д. Одним словом, с точки зрения ремесленника, портрет,
сделанный художником Боровиковским, неудачен во многих своих деталях.
Но мы останемся на стороне
художника и продолжим наше исследование того, как открывается нам через его
творчество сверхчувственный мир. Боровиковский, подобно своим предшественникам,
верен внутреннему опыту, который он получает от изображаемой модели. Он не
может замкнуть пространство фона, поскольку чувствует человека не замкнутым в
себе существом, а стоящим в связи с Космосом, хотя и в весьма ослабленной мере.
К концу жизни, уже в XIX столетии, когда меняется душевный склад самого
художника, и мир иных людей окружает его, появляются опыты иного рода, в
которых индивидуальное начало изображаемых художником лиц утрачивает черты
общего типа. В них начинает проступать душа рассудочная. Интересно, что при
этом и фон портретов становится глухим, цвет приобретает более строгий, подчас
будничный характер (56, 57). Личностная неповторимость сопровождается
окончательной утратой связи души со сверхчувственными стихиями. Иногда это
заходит так далеко, что душе угрожает потеря всякой пластичности. Тогда снова
возникает потребность открыть фон, но былого уже не вернуть. И художник,
ведомый безошибочным чутьем, находит такое решение: в портрете
Д.П.Трощинского* он делает фоном картину же с изображением пейзажа (57).
Замыкание души в мире рассудочных понятий (книжной мудрости, абстрактных
масонских символов, среди которых жил Трощинский) ведет ее к омертвению. Такова
цена мыслящего сознания.
* Это тот Трощинский, который участвовал в заговоре против Павла
I.
В галерее портретов
В.А.Боровиковского преобладают женские образы. О причине этого мы говорили в
связи с портретами Рокотова. Встречается у Боровиковского и несколько восточных
мотивов. Это портреты г-жи де-Сталь в тюрбане и персидского принца
Муртазы-Кули-Хана (оба находятся в Третьяковской галерее). Было бы странным,
если бы художник не разглядел "арабесок", присущих душе ощущающей.
Наконец, отметим еще одну
существенную черту творчества Боровиковского. Если еще раз просмотреть весь
приведенный нами ряд портретов старых русских художников, то можно заметить,
что Боровиковский в большей степени, чем его предшественники, дистанцирован от
своих образов. Он одновременно верен и объекту своего творчества, и себе, тогда
как Антропов, да в большинстве случаев и Рокотов всецело утрачивают себя в
изображаемой модели. Поэтому у Боровиковского, несмотря на присутствие общего
типа, образы портретируемых им лиц, особенно в более поздний период, несут в
себе достаточно много индивидуальных черт, разгаданных художником, что вполне
соответствует природе души ощущающей, приходящей в соприкосновение с душой
рассудочной. Этим же обстоятельством обусловлены и перемены в колорите. Текучая
легкость нежно-голубых, серебристо-жемчужных тонов ранних портретов на поздних
сменяется густой мажорной насыщенностью локальных цветов, имеющих законченный
характер, введенных в границы четко очерченного контура.
Несколько раньше Боровиковского в
хронологическом ряду русских портретистов стоит Д.Г.Левицкий (1735-1822), художник
со сложным, противоречивым творчеством. Он, как и Боровиковский, родился на
Украине. Его отец был духовного звания и незаурядный гравер, мать происходила
из небогатого дворянского рода. Учился Левицкий в Петербурге у итальянца
Валериани, от которого, как говорят, усвоил хорошее знание перспективы. Но
принять это можно лишь наполовину. Владением перспективы, кроме ученичества и
своего дарования, Левицкий во многом обязан тому обстоятельству, что в нем, в
отличие от других художников его времени, лишь спорадически вспыхивают смутные
ощущения сверхчувственного мира. Они не мешают ему переживать окружающий мир
адекватно восприятиям внешних чувств. Но при этом в творчестве он вынужден
больше, чем другие, искать опору в своем индивидуальном и из него строить
отношение к натуре. Подобная конституция души вызывала в художнике трагический
разлад, наложивший определенную печать и на его творчество: портреты кисти
Левицкого отличаются хотя и не глубоким, но обостренным психологизмом,
индивидуальной выразительностью. Интересен облик самого художника, дошедший
до нас благодаря двум портретам: один из них сделан Боровиковским в 1795 г.
(58), другой - И.Е.Яковлевым в 1812 г. (хранится в Русском музее). Левицкий на
этих портретах имеет вид человека, мучимого сомнениями, страдающего внутренним
раздвоением, прошедшего в жизни через немалые испытания души. Таков он, видимо,
и был в действительности. Угасающий сверхчувственный опыт вызывал в нем
напряженные духовные искания, приведшие его уже в зрелые годы в ложу
Н.И.Новикова. О нем рассказывают, что будучи стариком, он не иначе как на
коленях и со слезами приближался к причастию.
Нам должна быть понятна душевная
драма Левицкого. Обострение в человеке я-сознания сопровождается чувством
покинутости мира Богом. Но чем тогда бывает жив человек? В нем возникает некий
духовный центр. И он открывался исследовательской кисти Левицкого, но пережить
его как самодовлеющее "я", как микрокосм в человеке художник, видимо, был не в
силах, тем более, что в иные моменты в нем вспыхивал опыт, обнаруживавший
непосредственную связь человека с Богом, когда личное начало растворялось в
некоем всеобщем и вместо индивидуальности выступал тип.*
* Строго говоря, Д.Г.Левицкий не был первым, кто в русской
портретной живописи обнаружил черты индивидуализированного, в смысле
переживания изображаемой модели, творчества. Его предшественниками являются
крепостной художник Иван Аргунов (1729- 1802) и его сын Николай (одну работу
Николая мы приводили - 48). Значительно уступая Левицкому в мастерстве, они
родственны ему в жанре психологического портрета. Однако в нашем изложении мы
ограничиваемся рассмотрением лишь наиболее значительных мастеров, дабы не
затруднить понимание главных ступеней развития русской культуры, взятой в
достаточно трудном ключе симптоматологии.
Творчество Левицкого многослойно.
Но, в первую очередь, оно разделяется на две большие группы мужских и женских
портретов. В мужских портретах Левицкий выступает как художник совсем нового
склада. Изображенные на них лица даны вполне материально, начиная, так сказать,
с интерьера и складок одежды и кончая складками кожи. И то, как видит их
художник, позволяет ему свободно и ясно строить композицию, каждый раз новую,
неожиданную, а цветовое решение всецело давать исходя из индивидуальных
представлений об эстетическом. Его краски определенны, "организованы", как
организована композиция. Все это мы встречаем многообразно разработанным у
западноевропейских портретистов, и с несравненно большим мастерством. Цвет у
них служит не только чисто эстетическим целям, но и выявлению индивидуальных
черт изображаемого лица. Так что в своих лучших образцах западноевропейский
портрет XVII-XVIII веков, а отчасти и XVI в., раскрывает нам - воспользуемся
философским термином - психологический имманентизм как коренное свойство
человеческой души в новой эпохе. У Левицкого мужские образы портретов
психологически "одномерны", хотя и каждый по-своему. Лишь одно определенное
качество доминирует в характере изображаемого художником лица: достоинство,
склонность к филантропии, властность, благородство и т.д. Однако это нисколько
не мешает высоко оценить творчество Левицкого, ибо оно дает нам то, чего мы не
найдем ни у одного западно-европейского художника: оно зримо являет тайну
становления личности в условиях русской жизни.
В эпоху Левицкого просвещение
начало приносить свои плоды. Восприятие человека пришло в неразрывную связь со
стремлением его понять; дифференцировалось традиционное переживание морали. Ее
отдельные проявления получили свою объективацию в личности, наделенной
общественными добродетелями и потому приобретшей гражданское звучание. Это нашло
своеобразное отражение в масонской идеологии. В России она явилась до некоторой
степени предтечей позднейшего психологизма русской культуры. Еще до появления
самосознающей личности эта идеология обратила внимание на отдельные личностные
проявления, и хотя не могла свести их в целостную структуру, все же старалась
во всей их посюсторонности не потерять Божественного первоисточника.
Левицкий, как художник, познал
через опыт творчества многие единичные проявления земного человеческого "я", но
к синтезу их не пришел. Зато он обладал невиданной до него свободой их
изображения. Возьмем в качестве примера портрет П.А.Демидова (59). Этот человек
был богатейшим промышленником, последователем Руссо, меценатом, незаурядным
садоводом-любителем и одновременно оригиналом, предшественником позднейших
русских богатых купцов и фабрикантов-миллионеров, любителей покуражиться и
натворить всевозможных несуразностей. О Демидове рассказывали, что он ездил в
ярко раскрашенной карете, запряженной шестериком, при этом две средних лошади
были гигантского размера, а остальные - не крупнее мулов; на запятках стояли
два гайдука: один карликового роста, другой - верзила.
Портрет Демидова относится к
числу, так называемых, парадных, которые во множестве рисовались как до
Левицкого, так и в его время. Задачей парадного портрета было возвеличить
изображаемое лицо, показать его как столп общества во владетельном, сословном
или нравственном смысле. Поэтому то, что позволяет себе Левицкий,
представляется просто неслыханным. Он изображает Демидова в домашнем халате,
опирающимся на лейку. Необходимая деталь парадного портрета - колонна. У
Левицкого их даже две, а на переднем плане - обыкновенный стул, годный лишь для
того, чтобы на него ставить ящики с рассадой. В то же время, Демидов дан в традиционной
парадной позе, с эффектным жестом руки, указующей на предмет его деяний -
цветы, а может быть и на виднеющийся вдали Воспитательный дом, построенный на
пожертвованные им деньги. Но ни величия, ни тем более одухотворенности в лице и
облике портретируемого нет и следа. Это человек всецело от "мира сего".
Среди камерных портретов Левицкого
интересен портрет французского философа Дидро (60), побывавшего в 1773-74 годах
в России. Как и Демидов, Дидро охарактеризован однозначно. Всем своим видом он
демонстрирует того "естественного" человека, который пришел в мир вместе с
французскими просветителями. Только было бы неверно думать, что эту
характеристику Левицкий берет из ума, благодаря чтению Руссо и энциклопедистов.
Поданное им на портрете он прочел в самой модели, ибо он верен ей, как и другие
современные ему художники, только видение его по преимуществу чувственное,
психологическое.
Совершенно иной характер носят
женские портреты Левицкого. При работе с женскими образами художественное
чувство Левицкого проникало до глубинной субстанциональности человеческой души,
но открывавшееся при этом несло более неопределенный и сложный (не
психологический) характер. Так, в портрете Урсулы Мнишек (180) и ему подобных
обнаруживается попытка художника выразить природу жизненных, эфирных сил, что
видно по особой фактуре инкарната кожи; в нем подчеркнуто контрастно даны обе
составляющие его части: черный и красный цвета. Но в преувеличенном румянце
обнаруживается игра не только жизненных, но и душевных сил. Весь облик дан
духовно приподнято, чем напоминает образы Рокотова.
В женских портретах, по сравнению
с мужскими, более богатая и утонченная цветовая гамма; возникает даже некая
дымка, цвет становится летучим. В способе подачи образов портретируемых видна
большая обобщенность, тип. Портрет М.А.Дьяковой (181) мы могли бы сравнить с
женскими образами раннего Боровиковского. Однако наравне с общим видно и
различие. Это прежде всего касается совершенно личностного переживания Левицким
эстетики цвета. Его краски лишь слегка "подсвечены" сверхчувственным
переживанием цвета, что придает им повышенную звучность, но при этом в них
много изысканности, они характеризуют индивидуально, психологически.
Совершенно особое место в
творчестве Левицкого занимают портреты выпускниц Смольного института. Всего
этих портретов семь. Они были заказаны Екатериной II, желавшей украсить ими
интерьер своего дворца. "Смолянки" изображены выступающими на сцене (61). Что
особенно поражает в них - это намерение художника дать портрет человека как
элемент дворцового декора. Подобного рода мысль не приходила на ум ни одному
русскому портретисту ни до, ни после Левицкого. Ибо обращение к человеческой
натуре всегда ощущалось как задача в высшей степени серьезная, связанная с
человекопознанием. В то же время, на примере "смолянок" мы видим, сколь далеко
ушел индивидуальный дух мастера.
Завершая обзор творчества
Д.Г.Левицкого, скажем еще о двойном портрете В.И. и М.А. Митрофановых (62).
Искусствоведы находят композицию этого портрета бессвязной, механической (и это
у мастера композиции!). Но если к портрету подойти не поверхностно, то его
композиция окажется просто гениальной, ибо вся она построена на внутреннем мире
портретируемых. Левицкий пробует свести воедино то, что в иных случаях
открывалось ему по отдельности в мужских и женских портретах, и таким образом
усилить напряжение своего поиска. Мужской образ дан на втором плане. Он как бы
удаляется от нас и увлекает за собой наш взор. Внимание концентрируется только
на лице, все остальное погружено в сумрак; и кажется: вот-вот возникнет
переживание человеческого "я". Но опыт кончается неудачей, и потому во взгляде
мужчины видна некоторая неуверенность в себе. Женский образ, раскрываясь и
ширясь в сторону зрителя по диагонали, идущей справа налево, куда более
красочен и - типичен. Свести оба образа в единое переживание - предлагается
зрителю.
Душевная драма расщепленной
личности, которой мучился Левицкий, с еще большим трагизмом выступает перед
нами в творчестве, а также и в жизни Ореста Кипренского (1782-1836). Уже с
рождения его социальное положение было двусмысленным: по отцу он мог бы
принадлежать к дворянскому сословию, мать же была крепостной. После окончания
Академии Художеств Кипренский всю жизнь метался между Россией и Италией, и умер
под лазурным небом юга, страдая от алкоголизма, не дождавшись рождения
единственного ребенка от простой итальянки Маруччи, брак с которой пришлось
скрывать от окружающих. Красноречивее всяких слов о внутреннем мире Кипренского
говорит автопортрет 1828 г. (182).
В своем творчестве Кипренский смог
выразить то, над чем безуспешно бился Левицкий, - тот неуловимый центр, который
мы зовем человеческим "я". Для этого потребовался целый ряд предварительных
условий. Первым из них было совершенно свободное владение техникой живописи. И
Кипренский добился этого. Несмотря на большое дарование, он в течение 15 лет
оставался в Академии: штудировал анатомию, законы цвета и светотени, оттачивал
рисунок. Второе, и более существенное, с чем художник столкнулся уже в жизни,
были его современники. В них проявилось то, чего еще не было в пору творческих
исканий Левицкого. Наконец, третье заключалось в душевном складе самого
Кипренского. Он остро переживал в себе личностное начало и при этом всецело
стоял в посюстороннем, чувственном мире. Разлад сердца и ума, которым он
страдал, был иной, чем у Левицкого. У последнего он носил более метафизический
характер в силу не совсем ясного, но несомненного ощущения того, что за чувственной
реальностью феномена человека присутствует, как форма бытия, реальность
сверхчувственная. В Кипренском мы видим проявление фаустовской души, в которой
вся метафизика личности выражалась в феномене "я" как духовного, центра,
включенного в физическое бытие.
Мы мало что знаем о мировоззрении
Кипренского. "Мирискуссники" находили его "слабым". Однако кое-что
свидетельствует как раз об обратном. В его рабочем альбоме имеется одна запись,
которая обнаруживает в нем человека гетеанистического склада. И вряд ли удались
бы ему его художественные опыты, будь это не так. Запись эта такова: "Кто
говорит, что чувства нас обманывают?" В этих словах выражается все та же
традиционная верность русских художников опыту, но у Кипренского в нем
отсутствуют сверхчувственные переживания, вернее, они открываются ему лишь в
интеллектуальной и художественной форме. Художественная интуиция для художника
есть то же самое, что интеллектуальная рефлексия для ученого. Оба имеют
возможность извлечь с ее помощью познание, оставаясь верными опыту чувств. Лишь
способ выражения у них разный.
Исследуя проявления "я" в своих
современниках, Кипренский не мог не заметить такой фигуры, как Гете. И он имел
с ним встречу. "В Мариенбурге, - писал он художнику Гольбергу, - я познакомился
с славным человеком Gote...". У Гете имеется по этому
поводу следующая запись: "...позировал несколько часов русскому
живописцу... хорошо мыслящему и искусно работающему. Ему удалось всех
удовлетворить, даже великого герцога, коему нелегко угодить в данном роде...
фамилия его Кипренский".
Русское общество двояко относилось
к Кипренскому. Одни считали, что ему уступает сам Ван Дейк, что он "постиг
тайну физиономии", другие объявляли его эклектиком, неспособным увлечь зрителя.
Художник Иванов писал о Кипренском уже после его смерти: "Он первый вынес имя
русское в известность в Европе, а русские его всю жизнь считали за
сумасшедшего". Последнее обстоятельство не должно нас удивлять, о чем мы уже
говорили в предыдущем очерке. Не особенно любезный прием находило явление
самосознающей личности в среде русской общественности.*
* Но интересен при этом такой факт. Кипренский пользовался
покровительством царской фамилии. Великий князь Константин Павлович выделял ему
ежегодно по 2 тыс. рублей для поездок в Париж; в Италии ему выплачивался
пенсион из личных средств императрицы Елизаветы Алексеевны.
Кипренский окончил Академию по
классу исторической живописи, но кроме того, что полагалось делать по
обязательной программе, ничего в этой области не создал. Заученность,
искусственность приемов академического направления были чужды духу его
свободного поиска. Но что полезного вынес Кипренский из Академии - это умение
рисовать. Виртуозная техника его рисунков не знает ни анатомических, ни
композиционных трудностей (63). Карандаш увлекал его еще по одной причине.
Известно, что человеческая личность обнаруживает себя в игре
противоположностей: добра и зла, трагического и комического, прекрасного и
безобразного. К чисто живописным средствам изображения этих полярностей следует
отнести прежде всего светотень. И вот она особенно и занимала Кипренского.
Карандашный рисунок с его элементарной противоположностью черного и белого
цвета особенно удачно служит поиску в этом направлении. Кроме того, он
позволяет быстро схватить неуловимую игру человеческого "я". Рисунки
Кипренского отличаются динамичным, нервным штрихом и одновременно большой
живописностью. Стремясь углубить исследование светотени, Кипренский много
занимался офортом, изучал гравюры Рембрандта.
Приемы рисовальщика отразились и в
живописи художника. Она отличается четкостью контура, глубокими и резкими
противопоставлениями света и тьмы, нервностью, почти эскизностью мазка,
использованием насыщенных локальных тонов, подчас даже перенапряженных. У
Кипренского отсутствует та тонкая цветовая нюансировка, которую мы видели у его
предшественников; его колорит, за небольшими исключениями, сдержан, подчинен
игре света и темноты. Портреты его уже не светятся тем загадочным, идущим как
бы изнутри светом, который мы видели у Рокотова, Боровиковского (на западе этой
тайной владел Рембрандт, правда, на иной основе, чем старые русские мастера).
Модель Кипренского целиком освещена внешним светом. И после него так будут
поступать все русские портретисты, начиная с Федотова. Как новое, к этому потом
добавится психологическая характеристика портретируемого, чего мы еще не
находим у Кипренского. Он лишь констатирует то, что ему открывается, и потому всецело
стоит в предшествующей традиции. Он, можно сказать (и это не будет гиперболой),
импрессионистичен. Только объект его импрессии - внутреннейшая природа
человека. Ей свойственно некое единство. И потому, как и у Боровиковского, и у
Рокотова, мы вправе говорить о профеномене, типе (но не стиле или
художественной манере), объединяющем все образы Кипренского. Поскольку же
профеномен здесь совершенно особого рода - "я" как центр человеческой личности,
- то портреты Кипренского едины при большом разнообразии. С некоторым правом
можно отдельный портрет Кипренского сопоставить со всей галереей образов
Рокотова или с целыми группами портретов Боровиковского и Левицкого.
Несмотря на то всеобщее, что
присуще человеческому "я" в рамках какого-либо социального слоя или целого
народа, его явление в отдельном человеке неповторимо. Чем более люди
отождествляются с душой ощущающей, тем больше в них выступает всеобщее:
групповое, сословное, национальное; чем сильнее они переживают в себе "я", тем
в большей мере они неповторимы как личности. Боровиковский передал
изумительнейшую игру души ощущающей, но когда смотришь на его образы, не
создается впечатления, что это вполне самосознающие индивидуальности. Даже там,
где преодолевается типическое, как, например, в портрете Трощинского (57) или
князя Куракина, изображенного в одеянии мальтийского рыцаря (около 1801 г.,
Третьяковская галерея), видно, что происходит это на внешней, функциональной
основе. У Кипренского каждый образ существует сам по себе благодаря некоторой
самодостаточности, самообусловленности, и потому в нем видна не функция (хотя
ее роль также исследуется художником), а то, что глубинно определяет природу
личности.
Феноменология человеческого "я"
характеризуется, в первую очередь, многоликостью. Велики различия между
проявлениями "я" в людях, в мужчине и в женщине. Далее, в портретных образах
Кипренского мы наблюдаем процесс овладения человеком своим "я". Вот оно
коснулось души подростка - и сколь не по-детски серьезен его взгляд (65). Юношу
оно наполняет романтическими надеждами, но, одновременно, и противоречивой
игрой страстей (182, 183). С годами приходит устойчивое равновесие, а с ним и
определенная проза жизни (67).
Интересно обратить внимание на то,
как смотрят портретные персонажи Кипренского. Их взгляд обращен одновременно и
вовнутрь, и к зрителю, особенно там, где лицо портретируемого дано анфас. В
этом есть что-то от автопортрета: даже глядя нам в глаза, портретируемый
смотрит в себя. В его взгляде заключен не интерес, а вопрос, портретируемый как
будто всматривается в себя через зеркало.
Лишь на портретах Кипренского мы
впервые встречаем скрещенные руки (66, 68) - факт особенно значительный для
знакомого с психософическими сообщениями Р.Штайнера. - Чтобы ясно видеть,
человек должен скрестить оси зрения, чтобы сознавать себя - оси мышления;
скрещенные руки позволяют замкнуться от мира и концентрироваться на своем "я".
Любопытна трактовка Кипренским
военных. Их "я" индивидуализировано в основном благодаря роду деятельности, а
значит носит групповой характер, потому без соответствующих атрибутов портрет
военного невозможен. В то же время, офицер - это начальник над людьми, он в
известных пределах автономен, деятелен, способен принимать самостоятельные
решения; наконец, в условиях войны он подчас смертельно рискует и должен быть
мужествен. Все это делает его "я" индивидуальным, но в индивидуализации
присутствует много заданного извне, атрибутивного (69). Внутренний же мир
человека подчас приходит со всем этим в противоречие (64).
В творчестве Кипренского не
заметно особой эволюции. В нем в разные годы вперемешку возникает то
романтическое, то прозаическое. Так, в поздние годы создается автопортрет
(182), портрет Пушкина (68), в ранние - портреты Ростопчина (67), мальчика
Челищева (65), Оленина (183). Но это обстоятельство говорит не столько о
художественной стороне творчества Кипренского, сколько о характере постижения
им внутреннего мира души. Явление "я" в русской жизни было слишком новым и
трудным феноменом, чтобы один художник смог измерить всю его глубину. Немало
сделал он уже тем, что творчеством своим засвидетельствовал: в индивидуальной
эволюции русский человек в первой трети XIX в. преодолел групповое сознание и
пришел к переживанию своей неповторимой автономной сущности.
У Кипренского имеется ряд работ,
навеянных итальянскими мотивами. Все они подражательны, выдержаны в типично
академической манере и почти ничего не говорят о художнике. О роли Академии
Художеств в развитии русского искусства следует вообще сказать, что польза от
нее сводилась преимущественно к изрядному овладению техническими приемами
живописи и ваяния. И в этом состоит ее несомненная заслуга. Без мастерства,
привитого Академией, русские художники не смогли бы решать сложных задач,
вставших перед ними с начала XIX века. Что же касается произведений искусства,
рожденных в ее стенах, то их художественная ценность, за редкими исключениями,
равна нулю. Академисты открыто провозглашали, что "античное искусство и
искусство Ренессанса есть наивысшее развитие художественного творчества и выше
этого искусства создать ничего невозможно, а потому остается только ему
подражать". Поэтому у академистов было регламентировано фактически все:
композиция, символические приемы для выражения настроения героев и их
характеров и даже колорит. Следуя заученным канонам, художники создавали
напыщенно-театральные композиции, где всё, от патетики жестов, до одеяний и
пейзажа было условно; названия картин (чаще всего историко-патриотические)
можно без вреда менять местами и вообще не спрашивать о них, а также и о том, к
какому времени и народу относится тот или иной сюжет (70).* Поэтому не
удивительно, что художники, способные к самостоятельному творчеству, по выходу
из Академии сбрасывали, как изношенный плащ, весь ее канонизм. Он был им
внутренне антипатичен. И это можно понять. Следуя отвлеченным канонам чистой красоты, школа
академистов достигла высокой степени люциферизации. Чтобы убедиться в этом,
достаточно взглянуть на один рисунок Ф.А. Бруни (итальянца по происхождению,
1799-1875) - наиболее одаренного среди академистов (71). Необыкновенно
изысканная, графически точная, словно по лекалам выведенная линия рисунка
отвечает высоким классическим образцам, но совершенно лишена наполнявшей их
жизненности. Люциферическое начало, которым, как мы знаем, инспирируется в
искусстве прекрасное, приобретает у русских академистов столь холодный и
отвлеченный вид, подобного которому не знала античность. Художник всегда
пользуется инспирациями Люцифера, творя прекрасное, но при этом искусство нужно
христианизировать. Школа академистов делала это в ничтожно малой степени и
потому наводнила живопись и скульптуру таким язычеством, какого по-видимому не
знал и древний мир.
* На приведенной картине изображена описанная в летописи и уже
знакомая нам сцена сватовства Владимира ("сына рабыни") к варяжской княжне
Рогнеде. Ее автор А.П.Лосенко (1737-1773) получил за нее звание академика и
профессора.
Но справедливости ради следует
сказать, что одно полотно в школе академистов обладает полновесной
художественной ценностью. Это "Последний день Помпеи" (184) Карла Брюллова
(1799- 1852). Современники считали картину лучшим произведением художника,
позже в ней видели пророческое предчувствие грядущих судеб России. В этой
картине Брюллов сделал нечто, казалось бы, невозможное. Следуя академическим
канонам, он сумел вдохнуть в них настоящую жизнь, преодолеть театральность,
позу, изобразить самую подлинную трагедию, несмотря на то, что абсолютно все
элементы картины соответствуют общеизвестным классическим образцам. Многое в
картине решает цвет. Он совершенно лишен академической условности, и в нем
опять чувствуется имагинативность.
Брюллов фактически "похоронил"
академическую школу. Ведь после него ей оставалось подражать не классическим
образцам, выше которых "создать ничего невозможно", а Брюллову, что было бы
уже, учитывая ее принципы, абсурдом.
Чтобы понять творчество Брюллова,
его нужно рассмотреть в ряду прошедших перед нашим взором художников. И тогда
обнаружится, что в нем снова оживает красочность полотен Рокотова,
Боровиковского, Левицкого. В многообразии цветовых решений художник ткет
изображаемые образы характеристично, празднично, то тонко, то пышно. Цвет у
Брюллова подвижен, но не летуч, он светится изнутри и одновременно - является
земным, ему присуща совсем иная, чем у Рокотова или Боровиковского организация,
более близкая той, что мы видели у Кипренского. Только у последнего брюлловская
живописность и звонкость тонов использованы предельно экономно. Можно еще
сказать так: Брюллов возвышает красочность земного мира до явления в ней
сверхчувственного.
Брюллов много работал со
светотенью, что в соединении с отмеченной организованностью цвета придает
особую густоту его колориту. Но сам художник считал это своим недостатком и в
поздние годы говорил, что устал от светотени.* Видимо, по этой причине он
охотно прибегал к акварели. Красочность брюлловских портретов, если их видишь
сразу много, производит даже несколько ошеломляющее
впечатление, но когда глаз немного попривыкнет, то начинаешь понимать, что
такое эстетическое наслаждение; на ум начинают приходить музыкальные аналогии.
При этом с несомненностью обнаруживается, что и у брюлловского творчества есть
свой профеномен. Им снова является душа ощущающая. Но в отличие от
Боровиковского, где она воплощается в человека как бы сверху вниз и сохраняет
характер типа, на портретах Брюллова (а он, главным образом, портретист) мы
видим ее уже вполне воплощенной, индивидуализированной и поднятой на вершины
присущего ей эстетизма.
* "Я хочу -говорил он, - чтобы у меня все было в свету, вес было
залито светом, как у Поля Веронеза".
Может создаться впечатление, что
образы Брюллова столь же индивидуальны как и у Кипренского, но стоит
присмотреться внимательней и шире познакомиться с творчеством художника, и мы
увидим, что впечатление это неверно. Оно возникает, во-первых, благодаря
богатой игре светотени, во-вторых - благодаря совершенно личностному
переживанию самим художником колорита и эстетического начала в искусстве.
Брюллов не создает психологического портрета, однако - он психолог-колорист,
каких не было до него в русском искусстве.
Обратимся к примерам. Вот широко
известная "Всадница" (72) - душа ощущающая, оседлавшая черного коня
рассудочности, но в простоте своей не ведающая, что это за существо под нею.
Портрет Ю.П. Самойловой (а в таком роде их у Брюллова немало) своей пышностью
приводит на ум сказки Шехерезады (185). Под стать женским и мужские портреты.
Характер их образов также исчерпывается жизнью чувств, более или менее богатой
их игрой (73, 74), хотя уже одного этого достаточно, чтобы тип был преодолен
многообразием личностных проявлений души ощущающей.
У Брюллова имеется ряд картин на
итальянские темы. В них много света, экспрессии, романтики. Вообще его творчество
многообразно, портреты разных периодов неоднозначны не только по стилю, но и по
глубине характеров, и мы не станем возражать, если читатель увидит во взоре
некоторых брюлловских образов свет самосознания, опирающегося на жизнь разума,
а не чувств. Но главным в его творчестве все же остается то, о чем мы сказали.
Работы Брюллова пользовались в
России колоссальным успехом, а сам он был окружен всеобщим поклонением. Даже
Николай I спускал ему довольно оскорбительные вольности.*
* Однажды царь пришел позировать к художнику в студию, но при этом
опоздал на 20 минут. Решив наказать царя за опоздание, Брюллов ушел из дому. В
другой раз он больше часа продержал императрицу под дождем, когда она
позировала ему под окном, сидя на коне.
Жизненный путь Брюллова таков. Он
происходил из семьи немецких переселенцев. Его дед приехал в Петербург в 1773
г. Семья сильно обрусела, в ней говорили и думали по-русски. Отец состоял в
масонской ложе и был человеком строгих правил. От них Брюллову с раннего
детства пришлось немало претерпеть. Он был болезненным ребенком и по этой
причине много времени проводил в одиночестве, что рано углубило его характер. О
взрослом Брюллове художник А.Н.Мокрицкий писал: "Я не знал мужского лица прекраснее его ... красота
его была мужественная, с выражением ума, проницательности, гениальности". Это
действительно так, стоит лишь посмотреть на его портрет кисти Тропинина и на
автопортрет 1834 г., где он предстает нам сущим Аполлоном. Умер Брюллов рано. Свою
жизнь он сравнивал со свечой, подожженной с обоих концов и зажатой посередине.
Брюллов был романтик. Он высоко ценил человеческую свободу и был готов ради нее
идти на риск. Как художник он, несомненно, принадлежит к кругу самых выдающихся
колористов мира.
На фоне лучезарной,
"аполлонической" живописи Брюллова камерным и будничным кажется творчество
В.А.Тропинина (1776-1857). Но таково лишь первое впечатление. Достаточно
сказать, что сам Брюллов чрезвычайно высоко ценил портреты Тропинина.
Современники называли его "портретистом великим", "натуралистом неподражаемым",
"русским Грезом", находили у него "Тицианов колорит", "вандейковское умение
писать руки". Зато "мирискуссники", что называется, не ставили его ни в грош.
Разнобой русской критики в оценке наших художников всегда симптоматичен. Эта
критика, как впрочем, и литературная, и музыкальная, находила в произведениях
искусства не более того, что было близко субъективному духу ее представителей.*
С ранних пор она пошла путем позитивизма, благодаря чему принизила духовный
характер русской культуры, исказила ее понимание, наводнила культурную жизнь
междоусобной борьбой, категоричной однозначностью оценок и просто диктатом.
* Это верно за
теми редкими исключениями, где критиками выступают незаурядные художники,
писатели, например такие, как Д.С.Мережковский, Андрей Белый, Александр Блок.
Тропинин своим творчеством показал
русскому обществу, что в самых широких его слоях возвещает о себе душа
рассудочная как вполне определенное и устойчивое состояние человеческой
индивидуальности.
Симптоматичен жизненный путь
художника. Тропинин происходил из крепостных графа А.С.Миниха (имение которого
находилось в Новгородской губернии) и хорошо знал будничную, практическую
сторону жизни. Уже заявив о себе как о незаурядном живописце, он еще долгое
время был вынужден раскрашивать барские коляски, заниматься делами управления
барским хозяйством, к которому он и сам принадлежал в качестве частной
собственности. Обретя свободу, Тропинин поселился с семьей в Москве. Он не
любил Петербург, а там недолюбливали его портреты. И это можно понять. В
истонченной астральности этого города уже слагались понемногу зачатки русского
декаданса. Петербуржцам был ближе языческий эстетизм академистов, те блики
"страдающего Диониса", что вспыхивают на лицах образов Кипренского, а отчасти
уже и у Левицкого; по нраву пришелся им и чувственный "аполлонизм" полотен
Брюллова. В московском характере преобладало нечто "континентальное":
устойчивый ритм, неторопливость, жизненный реализм. В то же время, сравнивая в начале XIX в. оба
города, Пушкин писал в набросках своего "путешествия из Москвы в Петербург":
"...ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы".
Если бы Украина поспевала за
общерусским развитием в том смысле, как мы говорили об этом в четвертом очерке,
то жить бы Тропинину даже не в Москве, а в Киеве, и быть бы ему типичным
украинским художником (а он, кстати, долгое время работал на Украине). Тогда
(это можно предположить) пастельные тона его портретов, впитав силы эфирной
ауры южной Руси, приобрели бы более "червонный" и звучный характер. Кипренского
в таком случае можно было бы представить себе типично московским художником, и
кто знает, не имели бы мы тогда в его лице мастера, совсем близко стоящего по
силе к Рембрандту. Но как мы уже не раз говорили, все отношения в России
постоянно сдвигались с надлежащего места, и Душа Народа была вынуждена
врачевать нарушенное равновесие сил.
Благодаря искусству Тропинина, мы
познаем тот род душевности, что сформировался в среде городского люда,
населявшего центральную Россию в первой трети XIX века. Не мятежное горение
страстей, а спокойное осознание человеком своего индивидуального бытия
раскрывается нам на портретах Тропинина. И в их галерее особенно типичен сам
художник (75). Как человека, его отличали необыкновенная простота в жизни,
глубокий такт в отношении к людям, безграничная доброта и хотя и мягко
выраженное, но твердое чувство собственного достоинства. Освободившись от
крепостной зависимости, Тропинин отказался от всякой службы, от всяких исканий
почестей и карьеры и жил всецело трудом живописца, безгранично любя искусство.*
Именно столкновение индивидуальной пробужденности с рабским состоянием сделали
Тропинина совершенным выразителем души рассудочной, но опять-таки в чисто
русском ее облике. Поэтому не следует искать в образах Тропинина напряжения
научной мысли или голый реализм жизненных практиков. Герои Тропинина переживают
осознанно свое самобытие главным образом благодаря тому, что они
индивидуализированы в своей социальной роли; оттого часто Тропинин изображет их
во время трудового процесса. Несомненно, роль труда в индивидуализации человека
значительна, не следует только сводить ее к анекдоту, будто труд сделал из
обезьяны человека. Труд составляет лишь элемент социальной роли индивидуума, в
которой тот обретает самовыражение и для своего внутреннего мира.
Индивидуальная позиция в социальной жизни развивает чувство ответственности, вызывает
понимание серьезности жизни. И это может быть присуще как взрослому человеку
(186), так и подростку (76).
* Моральные принципы Тропинина отличала та патриархальная,
восходящая к древним заповедям непосредственность, которая присуща именно душе
рассудочной в ее повседневном проявлении в практической жизни. - На своем пути
к свободе душа рассудочная изживает себя в некоем этическом диапазоне между
заповедью и совестью (см. Р.Штайнер "Философия свободы", гл. 9).
Известны характерные примеры из жизни Тропинина. Однажды он
написал портрет некоей В.А.Зубовой (1834, Третьяковская галерея) и потом
говорил о нем: "Вот этот портрет остался у меня. Ей хотелось написаться
совершенно с открытой грудью, руками и талией. Я самопроизвольно накинул на нее
соболь, чтобы скрыть нравственное безобразие старухи; и она рассердилась на
меня и не взяла своего портрета, а я не согласился его выпустить из мастерской
в неприличном виде на посмешище публике".
Попробуем сравнить тропининского
мальчика (76) с мальчиком Кипренского (65). Тропининский мальчик серьезен и
даже грустен, ибо, несмотря на свой юный возраст он уже знает, что окружающая
его жизнь полна трудностей и страдания, в ней наравне со светлой есть темная
сторона. На портрете это подчеркнуто не только общей светотенью, но и резким
разделением фона на две контрастные части. Мальчик Кипренского не столько
грустен, сколько тревожно взволнован, ибо его души коснулась двойственность
иного рода - та, которая разделяет внутренний мир человека. Поэтому Кипренский
дает лицо ярким пятном на абсолютно темном фоне. Рефлекс от белого воротника
рубашки лишь усиливает нервность освещения. Такой же воротник у тропининского
-мальчика стоит в контрастном отношении с фоном и не играет существенной роли в
освещении лица.
Не все портреты кисти Тропинина
однозначны. На многих из них душа рассудочная выступает в тесном единстве с
душой ощущающей. По этой причине можно говорить о двух группах тропининских
портретов. В первой преобладает профеномен, они более однозначны, даже их
колорит упрощен до монохромности. В другой группе желто-коричневая и
золотисто-зеленоватая гамма местами дробится, местами ее заменяют
розовато-голубоватые тона, более соответствующие выражению астрального тела.
Возьмем для сравнения два чрезвычайно сходных по композиции портрета:
"Кружевницу" и "Золотошвейку" (186, 77). Изображенные на них девушки даже
внешне как будто бы похожи, и в то же время сколь различны их характеры. Это
видно по цветовому решению портретов, а еще более - по выражению глаз. Во
взгляде кружевницы, несмотря на его живость, светящееся в нем любопытство,
много затаенной грусти и прозы жизни. Что выражает взгляд второй девушки, так
просто не скажешь. В нем чувствуется какое-то душевное движение, можно даже
сказать, непредсказуемость поведения, словом то, что позволяет говорить о
трансцендентальной глубине человеческого характера как основе его
неповторимости.* Именно такова вторая группа портретов Тропинина. В каждом из
них проступает некая загадочность, и в них отсутствует, как сквозное единство,
тип.
* Характерны даже профессиональные занятия изображаемых девушек:
первая плетет кружева, что-то узорчатое и беспрерывное, как нить жизни; другая
вышивает золотом, создает нечто блистающее, впечатляющее.
За счет многообразной игры
практического ума и сердца, души рассудочной и души ощущающей, Тропинин создает
совершенно индивидуальные образы. Вглядимся в портрет певца П.А.Булахова (78),
отца автора стариннных романсов П.П.Булахова, или портрет известного в свое
время картежника и скандалиста Равича (79). В них все характеристично. Вместо
лессировок, к которым Тропинин охотно прибегает в первой группе портретов, мы
видим тут подвижный отрывистый мазок, колорит становится цветистее; даже
знакомый нам рефлекс от белого воротничка начинает здесь играть ту же роль, что
и у Кипренского: усиливает движение в освещенном лице и создает нервную
напряженность. При этом, несмотря на
романтический и даже несколько растрепанный вид портретируемых, несмотря на род
их деятельности: жизнь в музыке и в азарте игры, - мы не можем сказать, что это
люди только чувства. Чувства у них преобладают за счет своей насыщенности, но
сквозь них проступает жизнь мышления. Это люди, у которых жизнь сердца, что
называется, воскуряется в голову.
Но сколь бы ни были индивидуальны
персонажи отдельных тропининских портретов (в основном второй группы), нельзя
сказать, что в них выступает самостоятельный импульс "я". То "я", которым они
обладают, по-преимуществу отождествлено с душой ощущающей, как эго. А там, где
преобладает душа рассудочная, личностное поглощено типом. Поэтому им чужда
самоуглубленность, внутренняя раздвоенность. Они, можно сказать,
экзистенциально целостны. Таков даже портрет Пушкина, занимающий в творчестве
Тропинина особое место (80). Во взгляде поэта не свойственная образам Тропинина
обращенность вовнутрь. И тем не менее, весь Пушкин - это душа, пронизанная
большим движением чувств, на которых и сконцентрирован думающий взгляд поэта.
Он словно переживает в себе ту сложную, окрашенную эмоциями игру мыслеобразов,
из которых рождалась его поэзия. Но Пушкин у Тропинина не совсем романтик, ему
присуща большая трезвость мысли, жизненный реализм и опять-таки знание
печальной прозы жизни. Сравним этот портрет с другим, кисти Кипренского (68), и
мы увидим то, что нам надлежит понять. У Кипренского взгляд Пушкина также
обращен вовнутрь, но он сконцентрирован не динамично, а однопунктно, на "я" как
центре личности. Это выражается даже в некоторой застылости его позы. Попробуйте
мысленно скрестить Пушкину руки на портрете Тропинина, как это сделано у
Кипренского, и вы увидите насколько это невозможно.
Имеется еще одна исключительно
важная особенность в творчестве Тропинина. В его картинах мы впервые
встречаемся с тем, что можно назвать жанровым портретом. Это вовсе не случайно,
что весь XVIII век и треть Х1Х-го в русской живописи представлены одним только
портретом. Человеку, мыслящему материалистически по сути (внешне это может
выражаться самым различным образом, даже иметь вид идеализма), чрезвычайно
трудно представить себе, сколь иной была душевная конституция людей даже два
века тому назад. Какая-то "ахиллесова пята" обнаруживается как у людей веры,
так и у людей знания при их подходе к эволюции. Даже там, где ее не просто изучают,
а поклоняются ей, она отнесена к далеким геологическим эпохам. Однако эволюция
совершается на наших глазах, и задача эволюциониста состоит не в том, чтобы
экстраполировать современное состояние сознания на прошлые века, а постараться
проникнуть к их духу, открывающемуся в культурных, исторических и других
памятниках.
Переживая произведения русского
искусства, мы открываем такой процесс духовно-душевной эволюции, где сначала
люди созерцают имагинативные лики христианского космоса, в который понемногу,
по "лествице" духовных упражнений восходят великие подвижники и посвященные.
Начиная с Рублева, в иконе
выступают черты посюсторонности, индивидуального опыта художника в чисто
эстетическом выражении. После Рублева исследующий взгляд живописца все более
начинает замечать черты богоподобия в окружающих людях: их индивидуальную
проработанность. Все прочее еще остается погруженным в сумрак: как царства
покинутой Богом природы, так и постепенно оставляемые Богом центры группового
сознания людей (общественная жизнь). В то же время, индивидуальный опыт
художников не мог подняться до уровня души рассудочной и сознательной, дабы уже
из посюсторонности - исходя из индивидуального духа, в котором, как Макрокосм в
микрокосме, содержится Божественная потенция - вновь одухотворить через
искусство природу и человека и в членить их в царства Божественных миров.
В одной из лекций Р.Штайнер
говорит о том, что в искусстве душа ощущающая живет в цвете, душа рассудочная -
в композиции; душа сознательная выражает себя в реалистичности образов, в
мастерстве таких портретистов, как Дюрер и Рембрандт. Ранний русский портрет
отражает ступень еще имагинирующей души ощущающей, потому он, подобно древней
иконе, еще копирует нечто от сверхчувственного облика человека: состояние его
эфирного и астрального тел. Но в нем также содержится и много элементов
индивидуального творчества, каким оно возможно на ступени души ощущающей. О
жанре и пейзаже здесь еще не приходится говорить, хотя в Европе они развиваются
уже в течение полутораста лет.
Со времен Петра I русских
художников учат премудростям перспективы, композиции, даже пленэру, но с их
душой это соединиться не может, покуда она сама не эволюционирует от души
ощущающей к душе рассудочной, сознательной и даже выше, а такое не происходит
за два-три десятилетия. Поэтому художники чисто внешне перенимают приемы
западной живописи и компонуют даже сложные исторические сюжеты, но, приступая к
самостоятельному творчеству, снова обращаются к портрету, а в свойственных им
переживаниях цвета проступает сверхчувственный опыт. Пейзаж в эту пору носит
такой же заученный характер, как и историческая живопись, лелеемая в Академии.
В нем все чужое, подражательное, так что не всегда и поймешь - изображает ли
художник окрестности Петербурга, Парижа или какого-либо другого европейского
города. Пейзажисты не решаются выходить за рамки, так сказать,
"организованного" пространства, а в передаче архитектурно-парковых ансамблей
господствует условность. Таковы, например, произведения Сем. Ф.Щедрина
(1745-1804), руководившего более четверти века ландшафтным классом в Академии
(81). Что же касается Сильвестра Щедрина (1791 -1830), наиболее одаренного из
русских пейзажистов начала XIX в., то он всего себя посвятил итальянскому
пейзажу, всю жизнь провел в Италии, и о нем фактически нечего сказать как о
русском пейзажисте, кроме его происхождения.
Ныне много говорят о том, что
художник выражает свое время, и мало понимают, как это делается. Становление
человеческой личности идет ступенеобразно. Достаточно обратить внимание на
изображение рук в галерее русского портрета, чтобы почти осязательно пережить
процесс воплощения русского человека в
индивидуальное. Всякий знает, сколь неуклюже, по сравнению со взрослыми,
пользуется руками, особенно пальцами, маленький ребенок. А ведь именно пальцы,
находясь, так сказать, на периферии тела, особенно наглядно отражают степень
воплощения души в человека. В случае болезненной недовоплощенности, например,
при дебильности, пальцы рук на всю жизнь остаются неуклюжими. А теперь
вспомним, с какой беспомощностью даны руки на ранних русских портретах (47,
169). Антропов и Рокотов вообще избегали их изображать. У Боровиковского руки
пассивны, они лишь присутствуют, однако есть попытки наметить и их
функциональную роль. Но вот у Левицкого руки обретают жизнь; они характерны у
Кипренского; Тропинин делает их функциональными.
Попытка дать человеческому
индивидуальному началу движение вовне, включить личность в среду окружающих
предметов (мы не говорим об условном интерьере, будь то колонна или целый
пейзаж - это опять-таки одно подражание), дать ей взаимодействовать с другими
личностями - это было труднейшей ступенью для русских художников, для русского
самосознания.* Овладение ею шло постепенно и не обязательно в хронологическом
порядке. Первый всплеск, совершенно не самостоятельный, мы встречаем в самом
начале XVIII в. у А.Матвеева (168). В 60-е годы впервые пробуждается то, что
идет из собственных народных глубин. Наравне с таким имагинирующим художником,
как А.П.Антропов, возникает фигура Ивана Аргунова - человека крепостного, без
особого образования и воспитания, и тем не менее владеющего самостоятельным
художественным стилем, который обнаруживает в нем индивидуальное видение
психологических черт личности. Достаточно сравнить хотя бы один его портрет
(82)** с приведенными выше работами Антропова, чтобы воочию убедиться сколь
различной была душевная конституция обоих художников.***
* Таким же путем шла и Западная Европа, только там все это
происходило раньше, чем в России.
** Примечательно и здесь заостренное внимание художника к
переживанию рук, их способности к филигранно тонкой работе. От этих пальцев,
держащих небольшую кисточку, чертежных инструментов, указывающих на способность
рук творить графически точно, взгляд портретируемого приобретает повышенную
осознанность и самостоятельность; с другой стороны, взгляд настолько связан с
рукой, что она производит впечатление мыслящей.
*** Это два совершенно разностилевых мастера. Антропов,
несомненно, уступает Аргунову во владении формой, но значительно превосходит
его в колорите, в творческой потенции в целом. У них различна сама основа
творящей индивидуальности, поэтому опыт каждого из них ценен по-своему.
К концу XVIII - началу XIX
столетия два течения слагаются в истории русской живописи. В одном из них в
преемственной связи стоят: Антропов, Рокотов, Боровиковский, Тропинин; в
другом: И.Аргунов, Левицкий, Кипренский, Брюллов. В первом течении развитие
носит более самобытный характер и довольно точно обусловлено внутренней
эволюцией души, постепенно утрачивающей ясновидение и овладевающей душой
ощущающей, затем рассудочной. Тропинин здесь - последнее звено. Его попытки
создать жанр проистекают непосредственно из переживания души рассудочной, потому они
совершенно оригинальны, несмотря на свой зачаточный характер. Лишь
поверхностный взгляд способен уподобить Тропипнина - Ж. Б. Грёзу. Как раз из
сравнения с Грёзом становится хорошо видно, насколько та деятельность, в
которой пребывают портретные образы Тропинина, неразрывно связана с их
внутренним миром, а все вместе взятое - с миром души самого художника. Так
может являть себя только вполне самостоятельное творчество.
Во втором течении творчество
художников сопровождается более порывистой, дисгармоничной эволюцией души. Под
влиянием ли просвещения или иных каких причин, мы наблюдаем здесь раннее
пробуждение я-сознания без гармоничной проработки элементов тройственной души.
Художники этого ряда больше, чем другие, почерпнули в школе европейского
мастерства: у иностранных учителей в России и непосредственно в Европе. Хотя и
здесь главной была конституция их душ, о чем особенно красноречиво говорит
творчество И.Аргунова, почти что художника-самоучки. Мы считаем, что в
художниках именно этого направления особенно проявились последствия
революционной ломки Петром I русского уклада жизни. Но интересно, что несмотря
на значительно большую силу индивидуализирующего начала в их творчестве в
сравнении с художниками первого течения, им почти ничего не удалось сделать в
развитии русского жанра. Здесь имеет смысл говорить только о Брюллове. Правда,
несмотря на весь сложный антураж его портретов, их тоже не назовешь жанровыми.
За небольшими исключениями, антураж играет в них лишь роль фона, и можно почти
безболезненно для созерцания заключить портретируемое лицо в более узкую рамку.
Кстати сказать, там, где Брюллов делает это сам, его портреты сразу
психологически углубляются.*
* Говоря это, мы не имеем в виду той роли, какую играют у Брюллова
портретные аксессуары и зависящий от них общий колорит в живописном выражении
самого феномена души ощущающей. Брюллов здесь выступает, как традиционный
русский художник и даже смыкается с ведущими мастерами первого течения,
переживая цвет как и они, сверхчувственно, а вместе с ним и метафизику души
ощущающей.
Композиционное мастерство Брюллова
вполне академично. Мы уже говорили о нем, что все оно шло от ума, от простого
знания. Брюллов, правда, смог продвинуться здесь дальше других русских
академистов, но стал при этом вполне европейским художником, о чем особенно
ярко свидетельствуют его сцены из итальянской жизни. Поэтому он, в одном
отношении оставаясь для Тропинина недостижимым образцом, в другом - намного
меньше его сделал для развития типично русской жанровой живописи, ценность
которой не в том, что она может льстить национальному самолюбию, а в значении
ее для национального самопознания.
Сказанное нами о жанре можно было
бы повторить и по отношению к пейзажу с той только разницей, что он появился в
русской живописи еще позже. До конца первой трети XIX в. и в литературе нет
оригинальных пейзажных зарисовок, хотя развитие диалога, романтической
композиции там несколько опережает их живописный аналог. Искусство слова
движется быстрее искусства кисти.
Теперь, поскольку мы говорим о
воплощении тройственной души, у нас остается еще один вопрос: имеются ли в
истории первого периода русской живописи примеры воплощения высшего члена души
- души сознательной? На этот вопрос мы можем ответить утвердительно. Такой
пример есть. Мы находим его в творчестве Александра Иванова (1806-1858).
Необычен жизненный и творческий
путь этого художника. Иванов был не только воспитанником Академии, но и родился
в ней, поскольку его отец, профессор Академии, имел в ее помещении квартиру. По
завершении учебы Иванов уехал в Италию и там оставался в течение 25 лет,
работая в основном над одним-единственным полотном, названным им "Явление
Христа народу" (187).* Когда картина была привезена в Петербург, ее посетило
около 30 тыс. человек. А.Хомяков писал по поводу ее, что Иванов поставил себе
правило "устранить всякий личный произвол... он вовсе не думал о зрителе,
...(он) хотел, чтобы предмет сам перешел на полотно, посредством какой-то
духовной дагерротипии, ...по-видимому невозможное действительно возможно".
Позже картину высоко оценил Крамской. Ее главное достоинство он видел в том же,
что и Хомяков, а именно, что в сочиненной им композиции он (Иванов) внес идею
не произвола, а внутренней необходимости, т.е. соображение о красоте линий
отходило на последний план, а на первом плане стояло выражение мысли; красота
же являлась сама собой, как следствие".
* За исключением буквально нескольких полотен, все остальное в
творчестве Иванова - эскизы к этой картине.
Причину того, что философ и
художник сошлись во мнении о картине, следует искать в общем характере русской
культуры. В ней, что художник, что писатель или поэт шли путем особой верности
объекту творчества и потому легко понимали друг друга. Иванов не составляет
здесь исключения, только в отличие от других, та природа, которой он был верен
в своем творении, оказалась наивысшей. И его не поняли те (например, Стасов),
для которых искусство сделалось непостижимым в своей сверхчувственной
первооснове.
Для понимания творения Иванова
важно познакомиться с мировоззрением художника. Ему были близки исторические
взгляды Гердера. На познание он смотрел как на космическую судьбу человека.
"Страсть к познанию у человека так велика, - писал он, - что душа его по
отшествии из тела должна еще оглядеть, очувствовать все планеты существующие и
потом увидеть лице Божие и исчезнуть от восхищения у престола Его". Иванов
понимал центральность для эволюции человечества события Пришествия Христа,
давшего новый смысл также и истории. Если ветхозаветное человечество, считал
он, представляло себе Бога "как собор всех сил и человека", "в виде всесильного
царя, способного казнить и истреблять", то "Христос соединил в Себе собор всех
добродетелей и без оружия одним только словом действует на сердца и делается у
людей царем выше земного". Перед искусством в этой связи встает задача найти такое выражение для новозаветного
откровения, которое отучило бы людей "привязываться к какому-нибудь одному
изречению, запутывающему целые столетия в спорах поклонников телесного
воскресения с поклонниками духовного Воскресения".*
* По этому поводу высказывалось немало русских мыслителей.
Например, на рубеже XX столетия с этой идеей мы встречаемся у Н.Ф.Федорова.
И вот однажды в душе Иванова
блеснула художественная идея, как выразить Принцип Христа адекватно духу нового
времени. Несомненно, эта идея пришла как откровение Самодуха, и Иванов встретил
ее сознательно, т.е. сумел на какое-то время подняться в душу сознательную.
Переживание настолько воодушевило его, что он обратился к другим художникам с
предложением участвовать в воплощении его идеи как в деле общечеловеческого
значения; при этом себе он был готов отвести любую, даже самую элементарную
роль. Из этого мы видим, сколь возвышен был душевный склад художника, хотя в
целом образ его как человека остался для нас тайной. В течение более двух
десятилетий жизнь этого удивительного художника протекала в беспрерывном, почти
медитативном сосредоточении на одном предмете и была бедна внешними событиями.
Продолжительные периоды самоизоляции в мастерской вызывали порой у знакомых и
друзей Иванова даже беспокойство за его душевное здоровье. Беспокойство было
напрасным, но мы не знаем, что в действительности совершалось в этой душе. Об
этом мы можем судить лишь косвенно, по искусству художника.**
** Друг Иванова - Михаил Боткин писал о нем, что его как человека
отличали жажда истины, "дивная младенческая чистота души, трогательная
наивность, исполненная невинности и благородной искренности".
В истории мировой культуры имеется
еще один пример более чем двадцатилетней концентрации на одном произведении
искусства - это создание Гете своего "Фауста". Такая концентрация позволяет
высоким духовным инспирациям наиболее точно, глубоко и совершенно выразить себя
через индивидуальность художника. Именно это и имело место в случае с картиной
Иванова. Не будет беспочвенным предположить, что даже не Душа Народа, а Дух
Времени, Архангел Михаил, раскрыл в картине Иванова нечто универсальное,
общечеловеческое, а для России - призванное стать духовным ориентиром на долгие
времена.
Перед Ивановым несомненно встала
проблема: имеется ли связь между античной культурой и культурой современности,
между Христианством и Мистериями древности? Это отчасти заметил Хомяков. Он
писал: "Иванов уже не думал об антиках, но античное чувство красоты,
воспринятое им, перешло в его собственную плоть и кровь", т.е. художник, скажем
мы, решал проблему единственно верным для него способом: чисто художественно,
но так, что сам, оставаясь христианином, как бы стал при этом еще и антиком -
столь далеко идущей была его верность объекту творчества. Обо всем этом говорит
и приведенное нами ранее высказывание Крамского. А дальше Иванов
раскрывавшемуся внутри него предоставил возможность самовыражения через законы
художественного, все силы прилагая к тому, чтобы устранить случайное и
произвольное.
Обладая духовнонаучным познанием,
мы можем истолковать явленное нам через гений Иванова именно потому, что в его
картине дана большая метаисторическая взаимосвязанная реальность. Прежде всего
следует отметить, что по сравнению с 24-мя полными эскизами, последний вариант
картины наиболее совершенен в выражении соразмерности элементов природы:
минерального, водного, растительного, воздушного. Общая композиция построена по
принципу оккультного знака свастики. Нас не должно шокировать это
обстоятельство. Мир приучен к использованию оккультных знаков политическими авантюристами,
через которых круги темных оккультистов пытаются эти знаки скомпрометировать, а
заодно и воспользоваться их силой.* Но с древнейших времен в Мистериях свастика
была известна как святой знак ясновидения, знак двухлепесткового "цветка
лотоса", который, согласно многим эзотерическим учениям, находится в астральном
теле человека в точке, расположенной между бровями. Развитие этого духовного
центра и приводит человека к ясновидению. На картине мы можем видеть, что
вертикальной линии свастики соответствует путь, по которому Христос идет к
Иордану. Горизонтальную линию образует сложная композиция из человеческих
фигур, выражающая собой путь эволюционно-исторического развития человечества: 
* Те, кто создавал нацизм знали, что в подсознании многих душ, воплотившихся на рубеже XX
столетия, живет память, восходящая к их предыдущему воплощению, о культовом
служении, в центре которого стоял знак свастики. И поскольку в том отдаленном
прошлом они обладали групповым сознанием, то в новом воплощении, благодаря
особым идеологическим манипуляциям, они пошли за этим знаком не рассуждая,
руководствуясь лишь древним чувством-воспоминанием о некоем святом служении.
Из картины Иванова мы фактически
получаем непосредственное знание о сути нового, христианско-розенкрейцерского
пути посвящения. Она состоит в том,
что к сверхчувственному опыту человек ныне приходит благодаря тому, что, с
одной стороны, обращается к духопознанию и с его помощью осознает себя как
индивидуальное существо, возникшее в результате продолжительного
эволюционно-исторического развития, которое он проходил в ряде инкарнаций, а с
другой стороны - как существо историческое - человек должен воспринять в себя
приходящий свыше Импульс Христа, христианизировать свое земное бытие и
научиться восходить в сверхчувственные миры (из которых в историю низошел
Христос), свободно осуществляя принцип: "не я, но Христос во мне".
Мы уже упоминали о том, что
скрещение осей зрения позволяет человеку осознавать окружающий мир. Высшая
человеческая индивидуальность возникает путем скрещения оси истории, пережитой
в буквальном смысле слова как автобиография с помощью учения о реинкарнации и
карме,** и оси, по которой соединяется с человечеством Сын Человеческий и Сын
Божий. Скрещение этих осей происходит во времени и пространстве и одновременно
вне их. Удивительно, как это выражено на картине. Иоанн Креститель, несомненно,
помещен на ней в наиболее верную точку, однако не закреплен в ней совершенно - его можно
перемещать и вправо, и влево. От этого будет меняться направление пути, которым
идет Христос, а тогда получается, что Он приходит в любую точку в цепи
человеческих фигур. Этим выражается вневременной или всевременной характер
действия Импульса Христа. Следуя за Ним, человек рано или поздно выйдет за
пределы истории. Однако это высокая ступень развития, и ее еще нужно достичь. А
до того вне истории человек не мыслим.
** Человек может научиться рассматривать свои земные воплощения
как фрагменты своей вечной биографии. Прошлое уходит в наше подсознание, но
культура позволяет извлечь его оттуда.
Посмотрим, как дана линия истории
на картине. Начать следует слева. В старике, опирающемся на палку, мы узнаем
образ древней Лемур ии. О человечестве того периода развития говорят как о
древнем. Тогда произошло разделение полов, чем было положено начало развитию
индивидуального человека. Тогда же человек стал переходить к тому, что мы
называем прямостоянием. Все это выражено с помощью палки, на которую опирается
старик. Развитие в Лемурии происходило в водной среде, и потому старик стоит в
воде. Погибла Лемурия в огненной катастрофе. И достойно изумления, что белая
набедренная повязка у старика отражается в воде как красная! Это объясняют тем,
что будто бы Иванов не окончил картины. Но мог ли он после 25 лет работы
оставить такой "промах"? На одном из эскизов повязка у старика красная, т.е.
художник думал об этой детали, но внутренне он чувствовал, что она должна быть
белой, ибо лемурийский человек не обладал индивидуальными страстями, был
"чист". "Поправить" отражение опять-таки помешала внутренняя интуиция, которая,
не действуй она столь продолжительно, была бы разрушена соображениями рассудка,
логикой чувственного мира.
Перед стариком мы видим юношу. Это
образ древней Атлантиды; человечество, которое жило тогда, называют юным.* В
середине Атлантической эпохи возникли твердые континенты и совершился переход
человечества из водной в воздушную среду обитания.
* Мы, естественно, не можем дать здесь полный комментарий.
Для этого пришлось бы излагать весь "Очерк Тайноведения" Р.Штайнера.
Далее на картине изображены
культурные эпохи. Первая - древнеиндийская, отличавшаяся скептическим
отношением к майе чувственного мира, нежеланием "прилагать" к нему руки. За нею
идет древнеперсйдская эпоха Заратустры, когда впервые было выработано активное
отношение к земному бытию. В преемственной связи с нею возникают в дальнейшем
эпохи древнеегипетская и греко-латинская. Древнеегипетская эпоха представлена
библейским пророком. И это очень верная характеристика. Из Египта изошел
древний народ израильский; потом он был в вавилонском пленении, апостолы же из
его среды понесли весть о пришествии Мессии в античный мир. В четвертой,
греко-латинской культуре стоит Иоанн и указывает на идущего креститься Иисуса.
Развитие человечества совершается
не прямолинейно. Оно имеет вид двух спиралей.* Поэтому нам надлежит внести
уточнение в тот знак, которым выражена общая композиция картины, и нарисовать
его следующим образом:
* Популярный в Греции орнамент "меандр" свидетельствует о знании
древних об этом законе развития.

В точку сопряжения обоих витков
спирали приходит Христос, и Его Пришествие означает метаморфозу в развитии. До
Него человечество шло к ней как к своему будущему, после Мистерии Голгофы эта
метаморфоза присутствует в среде человечества как постоянно стоящая проблема.
Группа справа движется к ее первоистоку, но это движение совершается не во
времени и пространстве, а по ступеням сознания. Мы видим справа людей в белых
одеяниях, с лицами восточного типа. - Это "апостолы" материализма, ведущие свое
происхождение от импульса академии Гондишапур. Они хотят пройти мимо события
Крещения. Но настроение в их среде не у всех одинаковое. У одних как будто уже
безнадежный вид, другие активно враждебны Христианству (человек с гневным
красным лицом), третьи сомневаются. Два римских воина на заднем плане с
интересом, осознанно, смотрят на Иисуса, но следуют путями рассудка, который
они "оседлали" в эпоху Империум Романум. Этот поток увлекает за собой и русскую
душу. Она представлена слева фигурой в коричневом одеянии.* Жизненные силы не
увяли, не обесцветились в ней (а белые одеяния в этой группе означают не
чистоту, а бесцветность), она хочет преодолеть увлекающую ее инерцию и
обратиться ко Христу. Но удастся ли ей это сделать, мы определенно не знаем.
* Иванов изобразил здесь своего друга Гоголя. Но это не случайно.
Через Гоголя выражала себя Душа Русского Народа.
Всей группе справа пытается помочь
некое существо женского рода. Это Изида, Божественная София. Во времена Иванова
никто, подобно ученикам в Саисе, еще не мог (хотя уже и смел) лицезреть ее. Она
пытается соединить древнее (одряхлевшее, но не умершее) человеческое знание,
впавшее в материализм, с познанием Христа, с Духопознанием и тем вдохнуть в
него новую жизнь.
Идущая слева ветвь спирали, тоже
приходит в упадок, но не умственных, духовных, как справа, а жизненных сил;
однако, благодаря Христу, встает даже самый древний старец.** В ветви, идущей
справа, новую жизнь обретает тот, кто свое индивидуальное развитие приводит в
связь со Христом и таким образом из раба становится свободным. Поэтому полон
надежды и радости раб в синей накидке, сидящий на корточках в центре: он
встает, распрямляется (не физически, как лемуриец, а духовно), а фигуры вправо
от него подхватывают это движение.
** Ему помогает подняться некое юное существо, лица которого мы
тоже не видим. Кто оно? Может быть Антропо-София?
Под стать содержанию и краски на
картине. Она написана в чистых, имагинативных тонах. Художник избегает резкой
светотени, яркой освещенности. Группа в центре освещена как бы внутренним
светом (за счет рефлексов). И это правильно - ведь именно там и изнутри
действуют жизненные силы приближающегося Христа. Мы можем даже видеть в этом
определенное подчеркивание эфирной Природы Христа, в которой совершается Его
второе Пришествие, как Спасителя, Целителя человечества.
Фигуру Христа Иванов помещает на
заднем плане - явление, надо сказать, уникальное для всей мировой живописи.
Благодаря этому, созерцающий картину ни к чему не принуждается. Если его
увлекает внешняя канва жизни, он может ограничиться рассмотрением
многофигурного переднего плана (правда, при этом он останется ни с чем). Если
же он хочет понять значение Христа для развития человечества, то он должен сам
приложить усилие и ответить самому себе на вопрос: почему идущий в отдалении
Иисус Христос является истинным центром всей картины? Тогда зритель обнаружит и
себя включенным в эту картину. И нечто здесь тоже было замечено современниками
Иванова, хотя они не смогли достаточно ясно выразить это. Хомяков, например,
переживая этот эффект включенности в картину, воскликнул: "А priori я счел бы Иванова невозможным!"
Восприятие картины было особенно
не по плечу тем, кто в исповедании Христа предпочитал ограничиться лишь словами
и не переходить от них к делу. Характерно в этой связи высказывание Стасова:
"Она общею сложностью, общим составом своим не способна никого вдохновить и вознести".
Не теми ли словами и ныне противники Антропософии возражают против даваемого ею
познания Христа. Многие предпочитают навеки оставаться младенцами, потому что
из-за лености не желают входить в сложный "состав" мира. Отвечая на подобного
рода претензии, Р.Штайнер говорил, что не следует надеяться, будто великие
тайны мироздания, такие, как соединение Христа со всей Землей, могут быть
постигнуты с помощью азбучных истин. Другое дело, что и о самом великом можно в
какой-то форме рассказать самой простой душе. Но это не будет истиной в ее
полном выражении. Когда мы смотрим на картину Иванова, нам понятно, что ее
можно показать даже ребенку. Но насколько углубляется отношение к ней, если нам
удается ее понять. И этого ребенку уже не дашь.
На этом мы закончим рассмотрение
картины Иванова, хотя еще о многом можно было бы сказать, например, о работе
художника с лицами, когда годами, изучая типы людей в жизни, он вбирал в свои
эскизы, словно в губку, нечто архетипическое, присущее различным обликам
человеческого лица, прослеживал метаморфозу женских черт в мужские, в
результате чего персонажи картины наделены особым психологизмом еще не
разгаданного свойства. Скажем в заключение, что картина Иванова, как и многое
другое в русской культуре, обладает глубоким иносказательным смыслом, и пришло
время дополнить чувственное восприятие русского искусства углубленным
пониманием его. 40
Итак, Александр Иванов явил своим
творчеством некую вершину, на которую смогло взойти созерцающее познание
русского художника. Его художественная манера по своему
характеру может быть отнесена к направлению Левицкого - Кипренского - Брюллова.
Это направление кроме вышесказанного, отличали еще такие особенности, как
довольно ранняя, по условиям русской жизни, приземленность и пробуждение
фаустовской души: психологически напряженное стремление к раскрытию тайны
человеческого "я". Иванов эту разгадку дал - она оказалась на эзотерической
стороне бытия, - и таким образом все это направление художественного поиска
вывел, что называется, к свету. Ему самому, не сделай он этого, было бы не
миновать духовного кризиса, постигшего, например, Гоголя, который сам осудил
все свое творчество и сжег вторую часть "Мертвых душ". Правда, опасность такого
падения еще никак не обозначилась в начале XIX века. Мощное аполлоническое
наполнение (мы еще будем говорить о нем в дальнейшем) дал нарождающемуся "я" в
душе ощущающей Брюллов и тем хотя бы на время избавил его от трагического
раздвоения,* уже почувствованного Левицким и Кипренским. Иванов привел это
рожденное в эволюции "я" в связь с Я высшим. Зажженный им светоч хотя и остался
в высотах (не был ясно осознан), но как духовный импульс действовал в течение
всего столетия, художественно инспирируя творческую разработку проблемы
личности всеми значительными мастерами кисти.
* Сам будучи в душе "дионисинцем"
Другое течение, которое
продолжительное время удерживалось на духовной высоте и питалось силами
ясновидения, к началу XIX в. совершенно утратило их под действием все
возрастающего напора материальной культуры, ив то время, как целящие импульсы
Души Народа пролили духовный свет в пробуждающуюся фаустовскую душу, это
течение, пребывавшее хотя и в сумеречном, но устойчивом равновесии,
свойственном единой душе, пережило кратковременный кризис. Он выразился в творчестве
А.Г.Венецианова (1780-1847), которое по своей глубинной сути (а не по внешней
форме) является неким антиподом творчеству Иванова.
Венецианов всецело принадлежит к
направлению Рокотова - Боровиковского - Тропинина. Даже рисовать он учился у
Боровиковского, и первые его портреты представляют собой подражание учителю. Но
в возрасте 42 лет у него наступает перелом. На обратной стороне портрета
М.М.Философовой (Третьяковская галерея) он записывает: "Венецианов 23 марта
1823 г. сим оставляет свою портретную живопись". После этого он уезжает в
деревню и пишет фактически первую в русской живописи жанровую картину "Гумно"
(83).
На это, правда, можно возразить,
что жанровые сцены встречаются у русских художников и до Венецианова, и
привести в пример Тропинина, который в бытность свою на Украине написал
жанровую сцену "Свадьба в Кукавке" (Третьяковская галерея), где изобразил
свадебное шествие по улице большого украинского села. Можно опять-таки
вспомнить "Всадницу" Брюллова, или взять картину И.Фирсова "Юный художник",
написанную в 1760-е годы (84).
Что касается Тропинина и Брюллова,
то эти художники, действительно, являются предтечами русского жанра в живописи.
Они подготовили его возникновение, в особенности Тропинин; брюлловские жанровые
сцены не вполне органичны, многое в них - от академической школы. Картина же
Фирсова, скорее всего, написана художником во время его пребывания за границей,
она всецело подражательна. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить ее с
картиной Остаде "Художник в своем ателье" (85). А мы в свое время говорили, что
подражать, копировать русские художники научились у иностранных мастеров еще в
начале XVIII в. Однако это не имеет прямого отношения к развитию русского
искусства из его собственных сил. До Венецианова в сферу творческого опыта
русского художника не входит жизненное, социальное отношение человека к
человеку. Его еще не может выразить и Венецианов, но он пытается, исходя
всецело из собственных сил, хотя бы расставить фигуры на своих картинах в
"исходное положение", такое, где они могут прийти во взаимодействие. Это-то и
дает нам право говорить о Венецианове как о первом русском жанристе. Это верно
по внутреннему духу его творчества.
В Третьяковской галерее есть еще
одна картина, как будто бы опровергающая наши выводы. Это "Празднество
свадебного сговора" (86). Ее авторство приписывают одному малоизвестному
художнику второй половины XVIII века Михаилу Шибанову. Но давайте непредвзято
сопоставим ее с той сложной эволюцией русской живописи, которую мы уже
проследили, и вся невозможность возникновения в XVIII в. этого, выдержанного в
стиле и духе передвижников полотна, станет очевидной.* На обратной стороне
картины стоит цифра 1777. Считают, что это дата. Кто ее поставил - неизвестно,
может быть, антиквар XIX века, желая подороже продать картину, а может быть это
просто инвентарный номер. Но для искусствоведов-материалистов подпись стала
непреодолимым препятствием. Сначала под картиной писали: "неизвестный художник",
но, поскольку материализм боится пустоты, то со временем ей подыскали автора. И
так висит она в одном из залов Третьяковской галереи среди произведений XVIII
века, демонстрируя несостоятельность материалистического метода в
искусствоведении.
* Мы советуем
вернуться к этой картине еще раз, прочтя весь очерк до конца
Обратившись к жанру, Венецианов не
прекратил писать портреты, но они с той поры являют собой нечто совершенно
особенное. Что прежде всего бросается в глаза и в жанровых сценах Венецианова,
и в его портретах, - это какая-то невиданная прежде внешняя и внутренняя
неподвижность, застылость человеческих образов (87, 88). Ученик Венецианова
А.И.Мокрицкий пытался объяснить это тематикой венециановского творчества. Он
писал: "Индивидуальный характер нашего мужика, при мало развитой его натуре,
представляет художнику больше трудностей (чем западному), ибо народный тип
характера высказывается более в массе, нежели в частности". Однако лишь отчасти
можно согласиться с таким объяснением. Более существенным было другое, о чем,
по свидетельству Мокрицкого, высказывался сам Венецианов. Он рассуждал так: Смотри бесхитростно на натуру;
"...нарисуй комнату по правилам перспективы и начни писать ее, не фантазируя;
копируй натуру настолько, сколько видит глаз твой, потом помести в ней,
пожалуй, и человека, и скопируй его так же бесхитростно, как стул, как лампу,
дверь, замок, картину, - человек выйдет также натурален, как и пол, на котором
он стоит, и стул, на котором он сидит.. "
Это высказывание раскрывает нам
тайну творчества Венецианова. Он идет, фактически, тем же путем, что и его
предшественники, - путем верности натуре. Но если их реальность была
чувственно-сверхчувственного рода и потому художественна, то Венецианов видит
ее лишь чувственно и по этой причине упирается в тупик. Его творчество
соответствует наивному реализму в философии. В живописи такой подход совершенно
неправомерен, ибо он упраздняет главную задачу искусства: возвышать чувственный
мир до духовного. Потому портреты Венецианова имеют лишь этнографическую, а
отнюдь не художественную ценность. Они не более художественны, чем фотография,
сделанная любителем.*
* Венецианов буквально попадает впросак, когда берется за
обнаженную натуру Она у него шокирует своей непристойностью Да и что может быть
невозможнее раздетой русской женщины с ее врожденной стыдливостью, которую, в
силу своей верности материальной природе, Венецианов тоже копирует (см. ,
например, его "Купальщиц")
Ложно понятому принципу народности
в искусстве может импонировать обращение Венецианова к изображению простых
людей. Но что пользы кому бы то ни было в том, что художник лишь констатирует:
в России существуют крестьяне.
В творчестве Венецианова имеются
важные для истории русского искусства стороны, только их-то как раз и не видят.
Пытаются отстоять его народность, но в чем она? В этих простых лицах, лишенных
всякого душевного движения? А ведь русские крестьяне вовсе не были
примитивными. Достаточно обратиться к творчеству В.М.Максимова, И.Н. Крамского.
Даже за пятьдесят лет до Венецианова Иван Аргунов дал образ простой русской
девушки более содержательный, чем персонажи венециановских картин (89). Художник
был верен той же самой натуре, что и Венецианов, но при этом сумел увидеть в
ней целый душевный мир. Пусть он еще не пробужден, но он существует, живой,
неповторимый мир человеческой души.
Русская живопись должна была
прийти в конце концов к наивному материализму, ибо чем далее заходил процесс
воплощения в материальную культуру, а вместе с тем и в мыслящее я-сознание, тем
более терялась связь с духом Где-то ей надлежало прерваться совсем, и бедный
духом человек рано или поздно должен был обнаружить себя в мире одних лишь
материальных предметов, где все равно: стул, картина, человек. Однако с этой
точки начинается новое восхождение к духу из сил индивидуального "я". Человек
трезво и отчетливо, как никогда прежде, начинает различать окружающий его мир
людей, природы, познавать его и возвышать в своем искусстве до духовных
праобразов.
Венециановский жанр лишен
динамики, в нем все неестественно. Буквальное следование лишь за материальной
стороной натуры приводит к натуралистическому иллюзионизму. И
это неизбежное состояние, к которому приходит душа, не претворившая земной опыт
в индивидуальный дух. Она рассматривает материальный мир столь же
непосредственно, как прежде она рассматривала мир имагинативный. Но одного
отождествления с материальным миром в искусстве недостаточно. И заслуга
Венецианова в том, что он убедительно показал это.* Другая важная сторона его
творчества заключается в том, что в нем впервые до конца осознана трехмерность
реального, а не вымышленного (как в академизме) пространства, в котором живет и
действует земной человек. Поэтому в узости венециановского искусства
открывается дверь в совершенно иной широкий мир всей последующей русской
живописи. Неким символом этого нового этапа может быть названа небольшая
картина Венецианова "На пашне" с подзаголовком "Весна" (188), намекающим на
аллегорию. В этой картине видны многие из главнейших черт последующей школы
русской живописи: жанровость, пленэр, по-русски пережитый пейзаж,
бытописательность и, конечно, народность (только взятая не в политическом
смысле); поэтому она производит даже несколько монументальное впечатление.
Венецианову здесь блеснуло нечто такое, что могло бы подвинуть его творчество
на несравненно большую высоту, где берет начало совершенно новый этап истории
русской живописи.
* Другим примером здесь могут служить супернатуралистическис
натюрморты Ф.П.Толстого (1783-1873).
А теперь в заключение сделанного
нами экскурса в область русского изобразительного искусства бросим еще раз
взгляд на всю галерею рассмотренных образов, и сопоставим их с тем, что в той
или иной мере представляет собой их аналогию в западноевропейской живописи.
Посмотрим, например, на то, как при особо интенсивном переживании мира эфирных
сил выражает гармоническое сочетание души ощущающей и рассудочной Рубенс (90),
а Ганс Гольбейн и Гойя отображают взаимодействие этих душ со стороны астральных
сил, когда страсти души ощущающей, подобно кинжалу в ножны, входят в мир души
рассудочной и обуздываются налагаемыми ею оковами разума, традиций, заповеди и
условностей (91, 92). Посмотрим, какой образ получает душа рассудочная у Ван
Дейка (93), сознательная - у вышеприведенных английских художников Гейнсборо и
Лоуренса; наконец, феномен "я" - у Леонардо (Мона Лиза) и Рембрандта, - и тогда
на фоне этого мощного, уверенного становления европейской индивидуальности,
призванной из сил собственного духа в безостановочном движении фаустовской души
творить себя и культуру души сознательной, нам раскроется в своеобразной
красоте неизреченная тайна тихого, подобного шелесту весенней листвы воплощения
русской души, русского самосознания в современную культуру.
Единая
и тройственная душа
Мы уже говорили о том, что,
переселясь из Сибири в Европу, славяне приходили в соприкосновение с
греко-латинской культурой, дабы воспламениться теми духовными импульсами,
которые подготовили новозаветную историю. Начиная с X, XI века, эти импульсы
впервые получают свое внешнее выражение на Руси под влиянием византийского
искусства, пришедшего к нам вместе с Христианством. В другой раз, 7-8 столетий
спустя, они подступают с запада, где принципы и каноны античности и латинизма
за это время прошли уже гигантское творческое развитие. Так вводится Россия в
начальный период культуры эпохи души сознательной. В этот период христианские
импульсы движут и оживляют самые различные стороны становящейся цивилизации.
Однако, что касается искусства, прежде всего изобразительного и архитектуры, то
от средневековья и до начала XX в. Европа жила наследием четвертой
послеатлантической культуры. Она не созидала принципиально новых, христианских
по сути форм искусства, но в старые античные формы заключала христианское
содержание. Двадцатый век принес ариманизацию, чрезмерную люциферизацию
искусства и его неслыханный декаданс. В архитектуре возобладал куб, устойчивая,
но совершенно косная пространственная форма; в живописи и скульптуре - поп-арт,
в музыке европейский гений со всей своей мощью обратился к разработке ритмов
упадочных африканских культов и азиатского шаманизма.41 Лишь тонким
ручейком пробиваются сквозь топот и гам века импульсы нового христианского
искусства, которому еще только предстоит выявить духовные потенции восходящего
до Самодуха индивидуального творчества. В основе его лежит новое отношение к
искусству движения, к звуку, цвету, человеческой речи, развиваемое внутри Антропософского
движения.
Однако не следует думать, что
обновление европейской культуры должно совершаться за счет полного отказа от
всего прошлого опыта человечества. Нет, задача сводится только к тому, чтобы
оторваться от непосредственного следования канонам прошедшей культуры, которые
все равно утратили свою жизнеспособность, и дать им пройти через метаморфозу. В
метаморфизированном виде импульсы четвертой культуры должны стать импульсами
пятой, европейской культуры. И всякое обращение к опыту прошлого имеет смысл
только в том случае, если служит этой цели.
Русские образованные люди XIX в.
хорошо чувствовали всю бесперспективность стремления Европы упорно цепляться за
латинское культурное наследие. Никуда, кроме как к упадку, считали они, это
привести ее не может. Поэтому они и критиковали Запад (правда, далеко не всегда
в приемлемой форме), чувствуя при этом, что Россия не связала себя так тесно с
наследием греко-латинского мира; и вообще констелляция ее собственных духовных
сил иная, чем в Европе: ей более свойственна этическая, а не интеллектуальная
гениальность. Благодаря этому Россия смогла в культурном творчестве на
протяжении XIX в. дать нечто вполне сопоставимое по самобытности и духовной
ценности с тем, что создала Европа.
Русская культура XIX в. глубоко
пронизана исканиями смысла христианской жизни. Об этом много пишут и говорят,
но лишь данные Духовной науки впервые позволяют подступиться к пониманию смысла
этих исканий. Ибо лишь благодаря ей стало возможным понимание сути
греко-латинской культуры и ее роли в подготовлении Христианства. Человек пятой
культуры еще весь соткан импульсами предшествующего периода и как таковой
воспринимает в себя действие Импульса Христа. Без понимания этого факта
невозможно ответить на вопрос, почему столь мучителен путь Христианства,
несмотря на его внешние успехи. Метаморфоза одной культуры в другую еще не
завершилась, и процесс этот во многом совершается на арене отдельной
человеческой души. Проблемы нашего духа уходят своими корнями в античную
древность и, начиная оттуда, следует искать их решение.
Мы уже знаем, что искусство
древней Греции родилось в Мистериях. В его основе лежит древнегреческая
мифология, та форма мистериальной мудрости, в которой она вышла в широкий мир.
Распадение группового сознания, начавшийся процесс становления эдиповой души,
предшественницы фаустовской души нашей эпохи, побудили центры древних Мистерий
раскрыться широкому миру и дать ему совершенно новые формы водительства. Это
раскрытие в те отдаленные времена могло носить только аллегорический характер.
Однако мифологические аллегории обладали той особенностью, что могли оказывать
самое непосредственное воздействие на эфирно-астральные оболочки греков,
смягчая и гармонизируя совершавшийся в них эволюционный процесс. Поэтому
греческая мифология была антропософична.
Возраставшее чувство себя, как
автономного, обособленного существа, говорит Р.Штайнер, делало для грека весь
окружающий мир мертвым, он переживал тогда, что жизнь его усиленно расходуется
и оттого заболевал душевно и телесно. Чтобы оставаться целостными людьми, греки
должны были исцеляться. И этому служила трагедия. В ней (в ранний период)
являлся Дионис - Бог, возникающий из земных духовных сил. Он бессмертен, но
страдает с людьми, зная их страдания. Хор рецитировал все, что происходило в
душе Диониса. Зрители, сострадая герою, сопереживая страх, вызывали в себе
некий кризис, легкое воспаление, вроде пневмонии, и преодолевая его,
исцелялись.42 С приходом Христа на Землю макрокосмическое Я в самой
непосредственной жизни прошло путем страданий и пережило смерть на Голгофе. С
тех пор христиане в жизни и смерти Христа Иисуса переживают внутреннюю трагедию
и ею очищаются, приходят к катарсису. Поэтому Христа называют Целителем,
великим Врачевателем мира.43
Другую трудность для греков
составляло меняющееся в связи с процессом индивидуализации восприятие внешнего
мира. Как индивидуальное существо грек чувствовал себя расширяющимся через
восприятие в дали окружающей природы и терял себя. Чтобы как-то уловить
убегающий взгляд, создать для него в пространстве точку опоры, греки занимались
архитектурой. В позднейшие времена из этого, обращенного на внешнюю природу
взгляда развилась наука, которой мы занимаемся и по сей день.
Итак, в греко-латинской культуре
мы находим два основных принципа индивидуализации: внутренний и внешний. Их
действие переходит в эпоху души сознательной, но своим
происхождением они коренятся в третьей, древнеегипетской и даже во второй,
древнеперсидской культурной эпохе. Мы не можем двигаться далее, не рассмотрев
хотя бы вкратце суть обоих этих принципов, носящих названия дионисийского и
аполлонического. В русской культуре, особенно в начале XX в., о них велось
много разговоров, но явно не хватало понимания, что это сопряжено со
значительной опасностью, ибо человек здесь соприкасается не просто с образами
красивой поэзии, а с чем-то живым, действенным, способным принести ему как
пользу, так и вред.
В героях греческих мифов, Аполлоне
и Дионисе, отразилось сокровенное знание древних о характере становления
человека как индивидуального земного существа. Осознавая себя в
пространственно-временных отношениях Земли, человек переживал себя двойственно,
ему открывались, противостоящие один другому, внутренний мир души и внешний,
чувственный мир. Собственно говоря, непрерывно делаемое усилие свести оба эти
мира к единству и давало переживание личности. Это был некий итоговый опыт, к
которому пришла четвертая культура. Он стал возможен в результате сложной эволюции,
длившейся колоссальные периоды времени, разделенные промежутками чисто
духовного бытия (пралайями). Эта эволюция подробно описана Р.Штайнером в книге
"Очерк тайноведения". Однако мы не можем просто сослаться на книгу, поскольку
после ее прочтения не всякому удается тут же понять, как возникли два указанных
мира. Необходимо привлечь и другой материал, рассеянный в различных лекциях
Р.Штайнера. Для тех, кто такой работы еще не проделал, мы попытаемся свести
этот материал воедино и даже прибегнем к довольно абстрактной схеме, в основном
ради краткости изложения.
Из Духовной науки мы узнаем, что в
доступном сверхчувственному познанию человека пра-начале Творения, (т.е. взятом
не в абсолютном смысле) высокая духовная Иерархия, Престолы, или Духи Воли
принесла в жертву часть своей субстанции.* Эта жертва не была принята другими
Иерархиями и потому послужила изначальной субстанцией для нового зона творения
(он назван древним Сатурном). Субстанция стала объектом деятельности Иерархий и
в виде тепла сгустилась до материального состояния. Представим себе эту
субстанцию как некоего рода "штрих", "морщину", возникшую на фоне абсолютного
духовного бытия (см. рис. 1). На нее обращают свои действия все Иерархии, и
оттого она простирается до бесконечности, делит надвое сам мир Иерархий; в ней
возникает самобытие как некое "углубление" (инобытие); (рис. 2).
* На вопрос зачем они это сделали? Р.Штайнер однажды ответил: из
чистой благости. Бог всеблаг, и Он решает одарить бытием новый сонм существ.
Это, естественно, не единственно возможный ответ, но он показывает нам, что
высшее творение проистекает из импульсов свободы, труднопостижимых для земного рассудка.
Одна часть Иерархий в этой работе
противостает другой; при этом та, которая осталась верной себе, исповедуется
людьми как истинные Боги, а та, которая противостала первой, образовала сонм
люциферических богов. Истинные Боги, говорит Р.Штайнер, испытали потребность представить себя в самопознании, и
то, что они противопоставили себе, и были люциферические боги.44 Они
суть отражение изначальных Богов, но такое, которое наделено вторичным
атрибутом самобытия, по сравнению с первыми.

Той формой, что возникла в
результате работы истинных Богов и противоставших им и, таким образом, отставших,
люциферических богов, и был человек в начале Творения. Люциферические боги
увлекли его от истинных Богов и ввергли в материальное бытие, наделив
индивидуальной физической, эфирной и астральной телесностью. Физический мир
сгустился из чисто духовной субстанции путем ее перехода в сферу инобытия. Мир,
где обитают люциферические боги (Б на рис. 3), - это некоего рода "Зазеркалье".
Истинные Боги в своей области (А) предстают как мыслесущества; их отражение в
сфере Б выступает как понятие или как закон природы. В своей истинной
действительности (в А) мысль всегда пребывает творящей, и это ее свойство
косвенно проявляется в инобытии, в котором субстанции сгущаются. Столкновение
бытия и инобытия (как у Гегеля) образует эволюцию, становление человеческого существа,
а вместе с ним и всей материальной вселенной.
Люциферические существа все более
и более сужали непосредственную связь человека с Богом. Сначала она прервалась
в физическом теле, потом в эфирном и, наконец, в астральном (рис. 3, 4).
Человек стал микрокосмом, и с того времени истинные Боги живут в его
внутреннем. Этому внутреннему противостал со всех сторон внешний, материальный
мир, сгустившийся из духа благодаря действию люциферических существ. Но за
материальной завесой снова открывается мир истинных Богов. Они пронизывают
собой и мир материи, действуя в нем как его законы. В этом мире люциферические
духи оказались слишком слабыми, чтобы удерживать его в единстве. Как свою карму
они вызвали к бытию ариманических духов - консолидаторов материи. Истинные Боги
допустили их бытие, поскольку оно было необходимо для удержания материи от
распадения до тех пор, пока человек в ходе своей эволюции не утратит в ней
нужду.
С определенного времени внешняя
завеса физического мира настолько оплотнела, что связь с Богами стала для людей
возможной лишь при погружении в свое внутреннее, где шло развитие души
ощущающей, рассудочной и сознательной. Однако и здесь имелась большая
трудность. Когда человек утратил непосредственную связь с Богами, в его
астральное тело, как наиболее тонкое, проскользнул Люцифер (райский змей), и
это сделало внутреннее развитие души полным борьбы и противоречий. Со временем
отношение к материальному миру свелось к чисто материальному оперированию
теневыми понятиями, которые представляют собой отражения мыслесуществ от
человеческого мозга, поскольку он также материален, а всякая материя отражает
дух. Но за каждым теневым понятием стоит реальное мыслесущество, и потому,
одухотворяя понятия, соединяя естественнонаучное познание природы с
духопознанием, человек и на внешнем пути приходит к познанию Бога, сначала в
интеллектуальной рефлексии, а потом - на более высоких ступенях: в
имагинативном, инспиративном и интуитивном мышлении.*
* Из сказанного следует, что ограничивающаяся абстрактным мышлением
интеллектуальность носит люниферический характер, а духопознание составляет
путь истинной христианизации всей культуры мышления.
Древние греки называли истинных
Богов, открывающихся во внутреннем человека, нижними, или хтоническими Богами.
Совершенствуя в ходе перевоплощений человеческую душу, эти Боги даруют ей "я" -
Диониса. Люциферических богов греки называли верхними богами. Они оторвали
человека от Бога, дав ему вкусить от "древа познания" с помощью теневых мыслей,
но этим же вызвали и его индивидуализацию. Обретая собственное "я", человек
может проникнуть сквозь них к истинным Богам, скрытым за покровом чувственного мира,
и водителем его на этом пути, как говорили греки, является Аполлон. Согласно
древнегреческой мифологии Аполлон был сыном Зевса и Лето. Он родился на
плавучем острове Астерия (т.е. звезда), поскольку ревнивая Гера, жена Зевса,
запретила Лето ступать на твердую землю.
Займемся чуть подробнее общей
генеалогией греческих богов, чтобы понять природу как Аполлона, так и Диониса.
В интересующей нас части эта генеалогия такова: (см. след. стр.)
Греки различали три поколения
богов. Р.Штайнер сообщает, что первое из них соответствует миру интуиции,
второе - инспирации, третье - имагинации.45
Все они отражают собой эволюцию
мира, начиная от древнего Сатурна и до Земли. В древней Греции тот, кто не мог
восходить к исполненным сильной волей интуициям и инспирациям, воспринимал их
ослабленно в проекции только на земной зон. При этом наиболее существенную роль
играло третье поколение богов; два других были подернуты дымкой
неопределенности.

В третьем поколении ведущее место
занимали Зевс, Посейдон и Аид. Они суть выражение сил астрального, эфирного и
физического мира Земли. Их происхождение - сама история становления земного
зона. Из чисто духовного состояния (с бесконечным числом возможностей, потому -
из хаоса) рождается Земля как
материальное тело (сначала в тепловом состоянии). Духовное составляет ее Небо.
Люциферические боги воздействуют на мировую астральность истинных Богов,
отданную для земного развития, как дробящие, разрывающие силы (Титаны,
Гиганты). В образе Тифона и его воспитателя Пифона выступает сам Люцифер. В
другом своем аспекте люциферические духи связывают со сгущающимися субстанциями
божественную мудрость, которая является человеку как мысль. Из союза
инспиративной и имагинативной мудрости, Метиды и Зевса, рождается
Афина-Паллада.* Аполлон - сводный брат Афины. Его отец - тоже Зевс, а мать
- Лето. Имя сестры Лето-Астерия - указывает на звездную мудрость. И рождение
Аполлона происходит на острове Астерия, на звездном (астральном) острове в море
земного эфира. Аполлон становится вестником истинных Богов, открывающихся сквозь
завесу богов люциферических. Заратустра возвещал о нем как об Аура Маздао,
которого персы искали на внешнем пути посвящения, проходившем через мир верхних
богов.
* Она рождается из головы Зевса.
Таким образом, Аполлон - это
солнечный Бог. Он не символизирует внешнее Солнце (таковым был у греков
Гелиос), но действует как солнечный дух в элементах Земли: в воде, воздухе, в
земных испарениях. В этих испарениях, поднимавшихся из Кастальского ущелья и
змееобразно обвивавших Парнас, жил Пифон. Содержавшаяся в нем мудрость была
неочищенной и одурманивающе действовала на сидевшую на треножнике над пропастью
Пифию, приводя ее в экстаз. В человеке люциферически-ариманическая мудрость
Пифона приходила в связь с природой диких страстей, приводящих к хаосу мысли,
чувства и волю. Такому действию Пифона в душе Пифии противостоял Аполлон. Он
мудро организовывал ее мысли, чувства и воления, благодаря чему она могла
давать полезные советы (Дельфийский оракул). В этом аспекте Аполлон является
небесным праобразом св. Георгия, побеждающего дракона. Как солнечное Божество,
он указует на Христа до Его нисхождения на Землю, ибо Христос пришел извне,
сквозь мир люциферических богов, но не как отраженная, а как реальная Мысль,
Логос, как субстанционально самостоятельное Существо.* Сквозь представления
Богов пришла их реальная Мысль. 46
* Для более глубоко знакомых с данной темой добавим, что греки
представляли себе Христа, проодушевлявшего Натановскую душу до Крещения на
Иордане, как Аполлона.
В древнееврейском предании
Аполлону соответствует Ягве - носитель отраженного солнечного света, Аура
Маздао. Но он включает в себя и хтонические черты, так как нижние Боги выделили
Луну из Земли, дабы постепенно сделать человеческие души зрелыми для
я-сознания, а до того они под водительством Христа выделили Солнце.
Люциферические существа не смогли пойти с ними и потому остались с лунными
хтоническими Богами, воздействуя на астральное тело человека (но не на "я"),
отчленяя его (дробя) от общей астральности (искушение и изгнание из Рая), даруя
человеку свободу, но и способность творить зло. Так приходим мы к пониманию
двойной роли люциферических существ. Своим действием изнутри (главным образом -
в душе ощущающей) они рождают высокомерие, гордость, эгоизм, но также и
свободное самоопределение в мире, а извне их влияние выражается в истонченных
абстрактных мыслях, уводящих человека от Земли и ничего не дающих взамен.
Аполлон дает отпор идущему изнутри
хаотизирующему действию Люцифера, а извне формирует человека как мыслящее
существо. Сокровенное знание о той деятельности, что началась на древнем
Сатурне и образовала человеческие физическое, эфирное и астральное тела, у
греков составляло тайны аполлонических Мистерий. Древние египтяне, зная об этих
тайнах, говорили, что Озирис и Изида формируют человеческое тело с помощью
нервов: Озирис работает 28-ю руками над головным и спинным мозгом.* То же
делает и Аполлон, только его инструмент - лира: ее корпус означает голову,
мозг, а струны - нервы. Это мировая лира, и Аполлон играет на ней, производя
музыку сфер, которая (действуя из мира инспираций) и формирует нервную систему
человека. Кроме того, музыка освобождает в душе ощущающей силы, претворяющиеся
в логическое мышление, свойственное
душе сознательной; она приводит в порядок взаимодействие мысли, чувства и воли.
Потому Аполлон - Мусагет. Он извне формирует человеческое "я", находясь в кругу
Муз - символа семи- или девятичленного человека. Уже перед Заратустрой встала
задача готовить душу рассудочную человека. Но о работе с понятиями тогда не
могло быть и речи. Вместо этого использовалась музыка. Во времена третьей
культуры в Европе была распространена глубоко музыкальная,
мистически-музыкальная культура (о последних ее отзвуках у кельтов мы уже
говорили). Вдохновителем ее бардов был Аполлон.
* Но делал он это изнутри, как хтоническое Божество.
Во внешнем мире Аполлон вел
человека к познанию духа, макрокосма через познание природы. Отсюда происходят
его другие имена: Дафний, т.е. лавровый, "прорицающий из лавра", поскольку лавр
у греков был связан с метеорологическими явлениями; Дримас, т.е. дубовый, -
дуб, как мы помним, был священным деревом друидов; Ликейский, т.е. охранитель
от волков, - волк (медведь) в Мистериях символизировал опасности,
подстерегающие ученика аполлонических Мистерий (в сказках, мифах волк
откусывает герою руку, и течет кровь чрезмерного эгоизма). Аполлон может также
обращаться в разных животных, подобно древнерусскому Вольге.
Совершенно иной характер носит в
мифологии греков Дионис, сын Зевса и Персефоны, супруги Аида (см. схему).
Ревнивая Гера подговорила Титанов, и они разорвали Диониса, но Афина Паллада
спасла его сердце, и Зевс с помощью земной женщины Семелы породил из него
нового Диониса. Древний грек, говорит Р.Штайнер, понимал: "Я ношу во мне, в
моем существе нечто такое, чем я обязан земному сознанию, чего мне не могут
дать непосредственно боги - Зевс, Посейдон, Плутон (через деятельность
Аполлона! - Авт.), но в чем они могут действовать".47 Это земное
начало, обещающее в будущем человеку я-сознание, олицетворяла Персефона.
"Зевсова часть в сотворении Диониса состоит в том, что он представляет собой
единое, несмешанное, нерасчлененное". Гера, как существо из категории
люциферических богов, направляющих свою деятельность на раздробление,
индивидуализацию человека, ревнива, ибо ревность возникает там, где проявляется
индивидуальное. Кроме того, Гера олицетворяет собой низший рассудок человека,
ревнующий ко всему, что рождается из лучшего, высшего сознания. Она зовет
титанов, низвергнутых олимпийскими богами в недра (силы) Земли, чтобы те
раздробили единое сознание и оно вошло в отдельные человеческие тела. Но
наравне с Герой выступает интеллектуальная сила "я", из которой человек мог
строить образ внешнего мира, утратив ясновидение, которое развивала в нем из
элементарных сил Персефона. "Центральную власть в этой картине мира,
создаваемой нами из мыслей и образов фантазии... греки предоставляли Афине
Палладе". Она приносит сердце растерзанного Диониса Зевсу - и это есть
макрокосмический противообраз того, что совершается в человеке микрокосмически.
Силы, разрывающие Диониса, человек носит в себе; они составляют основу его
эгоизма, низших инстинктивных потребностей. Но из них развиваются симпатии и
антипатии - те две силы, из которых в астральном теле формируются понятия и
суждения (см. ИПН 115). Поэтому "как разрывающее пребывает
чувственно-рассудочная наука в человеке". Но если в
человеке много Божественной мудрости (Зевс), то она рождает дитя вновь (ИПН
8.1976, с.73).
Если бы действовала одна Гера,
человек развивал бы энтузиазм к еде, размножению. Но с помощью нашего сердца мы
можем развивать энтузиазм иного рода. Если наше сердце, говорит Р.Штайнер,
бьется для духовного мира, для его великих идеалов, если наше сердце
воспламеняется спиритуальным, тогда наша природа просветляется, одухотворяется
благодаря тому, что Афина Паллада присовокупила к деянию Геры. И в этом,
заметим от себя, видна деятельность также и Аполлона. О ней можно судить по
образу его сестры Артемиды, весьма близкому к образу Афины Паллады. Артемида
олицетворяет чистое мышление, которое человеку надлежит оберегать от
соприкосновения со своей животной природой (Артемида - охотница). Оно само
должно служить средством очищения, потому Артемида жестоко карает всякого, кто
не очистившись, в вожделении пытается подсматривать за ее истинной природой. В
то же время, Артемида Эфесская, изображавшаяся в виде многогрудой статуи,
олицетворяет полноту мира чистых идей, припадая к которому человек получает
истинное духовное питание и может работать над собой.
Но вернемся снова к Дионису. В
своем первом явлении он выражает собой ясновидческое сознание. Со временем оно
превратилось в наше ясознание с его интеллектуальной культурой, и это - юный,
второй Дионис. Из спасенного сердца древнего Диониса был приготовлен любовный
напиток для Семелы, дочери фиванского царя Кадма. Зевс соединяется с силами
человеческого астрального тела, и возникает современный человек Земли.
Интеллектуальная сила "я" простирается по всей Земле, поэтому юный Дионис много
странствует, изучает земледелие, науки. Он живет во всем, что ныне имеет место
в промышленности, в банках, чему учат в университетах, говорит Р.Штайнер.
Судьба юного Диониса подобна
человеческой. Древние греки, еще не обладая индивидуальным "я", с помощью вина
возбуждали в себе некое переживание, имитирующее современное действие "я" в
человеке, поэтому Диониса в Риме называли Бахусом и Вакхом, почитали как бога
виноделия. Но Диониса всегда следует отличать от его свиты: он как "я"
странствует в окружении фавнов, менад и прочих существ, лишенных "я". Их
поведение выражает действие низших сил человека, препятствующих становлению
"я". Это не всегда понимали даже в Риме, где во время празднеств, посвященных
Вакху, занимались "веселыми непристойностями" (Сервий).* В то же время, от
римского имени Диониса - Либер - возникло слово libertas (свобода).
* Именно эту сторону Диониса охотно развивают современные мифологи,
вообще склонные выискивать в древних культах упадочное, оргиастическое, а не
чистую высокую мудрость.
В греческих Мистериях Дионис
принадлежал к хтоническим Богам, подобно египетскому Озирису, которого находили
не во внешнем мире, где его победил Тифон (чувственное восприятие), а только в
духовном, за порогом смерти, или в том, что бессмертно присутствует в человеке,
переходя из воплощения в воплощение, - в его
сущностном. В эпоху Заратустры к Дионису приходили в Мистериях Митры. Там употреблялось
изображение быка, на котором восседает человек во фригийском колпаке (оттуда он
взят французскими революционерами) и колет быка мечом. Снизу быка в половые
органы жалит Скорпион. Бык - это животный человек, всадник - человек высший,
владеющий своей головой. В целом изображение представляло собой всего человека.
И в древности говорили: плохо, если человек подпадает низшим страстям,
приходящим из сексуальности и прочего. Высший человек должен господствовать над
низшим, обуздывать его, иначе в него войдут природные силы (скорпион) и
разрушат его 118 (о чем, начиная со времен Римской Империи, стали
все больше забывать).
Такова общая картина эволюции
человеческой души и человеческого "я" в 3-й и 4-й культурных эпохах. Тогда
началось резкое разделение между внутренним и внешним миром человека. В
Мистериях это пытались преодолеть, поочередно восходя к нижним и верхним Богам.
Тогда вновь обретали единство. Великим посвященным внешнего пути был
Заратустра, внутреннего - Будда. В 4-й культуре, в эпоху души рассудочной,
Будда имел задачу подготовить во внутреннем человека душу сознательную, но не
через чистые мысли, а через воспитание этики любви и сострадания. Однако не в
его силах было преодолеть могучую тенденцию к уплотнению физического мозга у
греков, начавшуюся в связи с переходом к жизни в понятиях. Потому Будда
воплотился в Индии. Античная же культура пошла к своему закату. Платон и Сократ
еще были связаны с мудростью Мистерий, Аристотель же дал решительный толчок к
рассудочной культуре. В дальнейшем, придя в Европу через арабов, аристотелизм
способствовал развитию бездуховной науки. Деятельность Аполлона во внешней
природе становилась все более номинальной, ибо плотнела ариманическая завеса,
скрывая все сверхчувственное. В своем внутреннем греки периода заката эллинизма
сталкивались, как с непреодолимым препятствием, с. возраставшей силой эгоизма,
закрывавшей доступ к нижним Богам. Римские цезари попытались искусственно
преодолеть эту преграду, принуждая иерофантов посвящать себя без
соответствующей моральной подготовки, но результатом была лишь одержимость,
особенно впечатляюще проявившаяся в Нероне и Калигуле.
Мистерия Голгофы преодолела
трагический кризис античного мира. Она объединила оба древних посвятительных
пути. Во Христе Аполлон соединяется с Дионисом. Человек с ходом времени сам для
себя стал внешней действительностью - как тело, покинутое Богом; он утратил
способность видеть в окружающей природе божественно-духовное. И когда на
Голгофе был воздвигнут Крест и люди взирали на умирающего Христа Иисуса, то
перед ними "был образ той природы (внутренней. - Авт.), в которой распят
человек. А когда смотрели на восставшего из гробницы, пережитого затем ап.
Павлом и учениками, живущего в мире Христа, то в этом обретали то, что прежде
видели во внешней природе. Во множественности, во множестве существ, в гномах и
нимфах, в сильфах и саламандрах и во всевозможных других существах земных
иерархий видели божественнодуховное, видели природу проодухотворенной,
проодушевленной. И через зарождающийся интеллектуализм
(т.е. во внутреннем. - Авт.) возникало стремление соединить воедино все, что
разбросано в природе. Это соединили в умершем на кресте Христе Иисусе. Но во
Христе Иисусе видели также все то, что были вынуждены потерять во внешней
природе. Всю духовность видели люди, когда взирали на факт: из тела возвысился
Христос, Божественный Дух, преодолевший смерть, и в этом Существе теперь может
иметь часть каждая человеческая душа".49 При взгляде на Мистерию
Голгофы обретали способность во Христе находить то, что утратили в природе.
Утрата была не напрасной, она
породила в человеке чувство себя, эго. "Не стань природа мертвой для внешнего
наблюдения, человек никогда не пришел бы к переживанию "Я есмь". Эго обретается
лишь в умершей природе, но потребность в духовном внешнем мире не проходит у
человека. И таким миром стал Христос. С другой стороны, человек "...не мог
видеть Христа внешне, как если бы Он оставался во внешнем мире, он должен был
воспринимать Его в "я". Он должен был мочь сказать себе, возвышаясь над
повседневным "я есмь": "Не я, но Христос во мне". 50
Так Христос стал истинным Богом в
человеке и для человека, даровав ему спасение от той неминуемой гибели, которую
несут ему люциферизация душевной природы и ариманизация природы внешней, к чему
теперь свелось действие древних дионисийского и аполлонического импульсов
развития. Эту опасность предвидели уже в Мистериях древности, почему они полны
упования на грядущее Пришествие Христа. В них за тысячелетия до Мистерии Голгофы
возвещали, что некогда явится человек с особым астральным телом, над которым
Люцифер не будет иметь никакой власти. Безо всякой подготовки, через свое
внутреннее, через эфирное тело он осознает мир Солнечного Духа. Физическое тело
Его будет таким, что непосредственно в нем, не выходя из него своим "я" и
астральным телом, он осознает весь тот духовный мир, который теперь вплоть до
момента смерти закрыт для человека Ариманом. "Физическая смерть не сможет
ничего изменить для этого человеческого существа в пределах жизни, т.е. не
будет иметь над ним никакой власти. В нем "я" проявится так, что в физической
жизни будет содержаться и вся полнота духовной жизни. Это существо - носитель
Духа Света. Посвященный сможет подниматься к нему двояко: восходя в особых
состояниях либо к духу сверхчеловеческого, либо к сущности природных сил".
51
В древности, познавая окружающий
мир, человек проникал к верхним богам, которые не обладают самостоятельностью.
Не удивительно, что в конце концов на этом пути пришли к пустоте, к ничто, лишь
к теневым представлениям об истинных Богах, к люциферическим богам. Восходя
через свое древнейшее, внутреннее существо к истинным Богам, человек должен был
проходить через мир собственных вожделений и страстей, насажденных в него
люциферическим искушением в Раю, которое привело его к эгоизму. Ныне, переживая
"не я, но Христос во мне", человек берет с собой в мировые дали не просто
субтильные идеи, но и "субстанциональность Христа", пронизывает ею все
сознание, отчего "...оно делается тем богаче, полнее, чем далее проникаем мы в
мироздание". В противоположном случае оно лишь рассеивается в мировой
пустоте; но "... если мы обретаем ясновидение душой, наполненной Христом, то мы
получаем для души богатый материал, так что перед нами могуче и грандиозно
встают истинные сверхчувственные основы (чувственной) реальности".52
Христос при этом растворяет наш эгоизм и вводит в мир истинных Богов.
Внутри себя мы погружаемся в
волевую природу, которая грозит нас сжечь. В пространственные дали мы уходим в
мыслях и рискуем растаять там в ничто. Христос соединяет наши мысли о мире с
волей, и мы приходим к наполненным волей мыслям, к водящим мыслям. "Благодаря
этому процессу, мы не стоим более перед абстрактными мыслями, но перед
мировыми, творящими в себе мыслями, которые могут волить. Болящие мысли: но
ведь это означает Божественных Сущностей, духовных Существ, ибо исполненные
волей мысли есть духовные существа. (Выделено нами. - Авт.) Так замыкается
круг". 53
Таковы суть те перспективы,
которые открывает Мистерия Голгофы перед человеческой эволюцией; перспективы,
говорим мы, но не данность. В пятой культуре оживают, пройдя через метаморфозу,
все основные импульсы духовной культуры греко-латинской эпохи. Мистерия Голгофы
вплетается в наследие древних Мистерий, придавая ему качественно новый
характер, но не отрицая его. В самом же наследии пребывают как здоровые семена,
способные прорасти в будущее, так и отсталые силы и тенденции. И то, и другое,
благодаря Мистерии Голгофы, приобретает более интенсивный характер, что
обусловливает возрастающее напряжение борьбы за правомерное развитие в новой
эпохе. В этом смысле Христианство приносит, как сказано в Евангелии, не мир, но
меч, - меч по преимуществу во внутренней борьбе человека, которую он уже сам
выплескивает вовне.
Древний Эдип, в новое время
становится Фаустом, а Сфинкс - Мефистофелем, люциферически-ариманическим
существом, стремящимся надвое разорвать человека и не дать ему развить в себе
свободного духа. В борьбе с ним Фауст должен завоевать себе свободное
"я" и в нем "замкнуть круг", о котором было сказано выше. Фауст ведет
борьбу за переживание Христа в себе, но исходным в этой борьбе является
двойственное положение человеческого "я" в мире, каким оно было уже у греков.
В европейскую культурную эпоху
христианское содержание переживается всецело в античных формах. Речь при этом
не идет о простом заимствовании, а о творчестве, обусловленном, в первую
очередь, самой конституцией человеческого "я". Однако старые формы имеют
тенденцию не только сохранять себя, но и полностью подчинять себе новое
содержание, благодаря чему христианское искусство в XVIII, а особенно к концу
XIX в. приобрело языческие черты, чем и был вызван его декаданс. В нашей эпохе
мы наблюдаем Аполлона многообразно побеждаемого Пифоном-Ариманом и
отождествляемого с материалистическим естествознанием и техницизмом; Дионис
сведен к переживаниям туманной мистики чувств в вероисповеданиях, к
сомнительному психологическому экспериментированию, либо, как древний Митра, он
утопает в разнузданной стихии "сексуальной революции". В той же части, где
дионисийское начало реализует себя как самосознающее "я", оно односторонне включается в
материальную культуру и тем лишь усугубляет действие жала скорпиона, поскольку
при этом бросает неочищенную астральность на произвол судьбы. Современные
политики-фантасты мечтают с помощью технического прогресса построить рай на
Земле и никак не могут понять, почему с ростом благосостояния возрастает и
преступная природа человека. Они берут человека односторонне, каким его можно
постичь лишь с помощью рассудочных категорий материалистического
жизневоззрения. Древнее знание о низшей природе человека им представляется
суеверием. Однако древние знали, что только очищение астрального тела, катарсис
может убрать камни на пути человеческого прогресса, и искали соответствующую
этой задаче социальную структуру.
Всецело вплетая человеческое "я" в
материальную культуру, современные социальные фантасты не понимают, что этим
они снимают оковы с низших страстей. (Кто-то, правда, делает это умышленно).
Поэтому технический прогресс в его современной форме и дальше будет
сопровождаться моральным регрессом. После крестной смерти Христос низошел во
ад. Это следует понимать и в том смысле, что Он низошел во ад низшего
астрального тела человека, и теперь перед каждым стоит задача с Его помощью
облагородить свою низшую природу. Материальная культура пытается полностью
упразднить эту задачу и тем разверзает под собой бездну. Дело усугубляется еще
и тем, что в этой культуре господствует ариманическое искушение, которому был
подвергнут Христос. Ариман сказал Ему: можешь ли камни превратить в хлеб? В
этом вопросе, говорит Р.Штайнер, содержится правомерная часть, ибо пока человек
живет в материальном мире, он должен трудом добывать себе средства к
существованию. Но Ариман пытается соединить с этим весь смысл человеческого
бытия. И всякая душа, не способная по-христиански словом и делом ответить на
поставленный Христу Ариманом вопрос, попадает к Ариману в рабство, служит
укреплению его мировой власти.
Люди "денно и нощно" пекутся о
хлебе насущном, забывая о том, что уже и Божье отдают кесарю. Правда, по
воскресеньям кто-то из них ходит в церковь. Но что они слышат там? Одни, кто попроще,
говорят им: знание "надмевает", оно греховно; другие, кто развил интеллект, но
только для того, чтобы никого не подпускать к нему, говорят то же самое, но
иными словами: секуляризация культуры ведет лишь к отпадению от Бога; если в
ней и есть какой-то смысл, то он состоит лишь в том, чтобы люди, убедившись в
тщете своих усилий, вернулись в лоно церкви. Взамен знанию предлагается вера в
тривиальном ее понимании. Так замыкается другой, порочный круг, где Люцифер
протягивает руку Ариману, тем самым полностью закрывая людям путь ко Христу.
Так происходит и на Западе, и на Востоке.
Хочется в качестве иллюстрации
привести по этому поводу один пример. Церковно мыслящий русский философ
В.В.Зеньковский написал историю русской философии. В ней он скрупулезно и умно
исследовал все ходы и извивы русской мысли, но лишь для того, чтобы привести
читателя к одному кардинальному выводу: "Суть ведь секуляризма - в
принципиальном раздвижении (т.е. разрыве. - Авт.) сферы познания и веры,
культуры и церкви". 54 -Здесь
что ни слово, то неправда. Все внецерковное развитие русской мысли в своих
лучших и напряженнейших исканиях было направлено на решение задачи, как
соединить веру со знанием, поскольку церковь безвозвратно ушла в сторону от
этого вопроса, как и от жизни вообще. Еще в самом начале XX в. в С.-Петербурге
по инициативе Д.С.Мережковского были учреждены "Религиозно-философские
собрания", в которых предполагалось представителей церкви и религиозную
интеллигенцию привести к диалогу. На первом же собрании, состоявшемся 29 ноября
1901 г., В.Тернавцев говорил: "Отсутствие религиозно-социального идеала у
Церкви есть и причина безвыходности ее собственного положения. ...Все
разбивается о безземностъ ее основного учительского направления". Это горький,
но справедливый упрек, и он может быть еще углублен, ибо разошлись не только
пути русской церкви и жизни, но и церкви и веры, о чем со всем трагизмом заявил
уже в XVII веке раскол, усиленный в дальнейшем широким движением русского
сектантства. Уж там-то некого упрекать в секуляризме. В то же время, русская
интеллигенция в своей лучшей части никогда не мыслила себя вне Христианства, и
даже там, где она впадала в материализм, остро выступал поиск истинных
оснований для веры, не отъединенных от знания, от жизни.
* * *
Петровские
реформы вывели Россию на сцену европейской цивилизации. Что было до того,
инспирировалось церковью, твердо стоявшей на усугубленном Московской монархией
византийском наследии. Менее чем за одно столетие России, как мы уже отмечали,
пришлось пройти то развитие, начало которого в Европе отмечено, скажем, Джотто
(1267-1337), обратившимся в своем творчестве от сверхчувственных созерцаний к
земному опыту; а во Фра Анджелико (1400-1455) оно пришло к соединению
виэионарного ясновидения с идеологией Римской церкви. Нечего и говорить, чтобы
за таким развитием мог поспеть весь русский народ. И потому, начиная с Петра,
русское общество раскололось по меньшей мере натрое. Простой народ остался в
старом, порабощенном состоянии, узкий круг дворянства и слагающейся под
влиянием Европы интеллигенции пошел навстречу интенсивной индивидуализации,
процесс которой мы показали на примере раннего русского портрета. Монархия, как
круг власти (а не один человек, монарх), осталась где-то посередине, испытывая
постоянные сбои в отношениях как с народом, так и с интеллигенцией.
Впрочем не
следует видеть в этом процессе только отрицательное. Добрые водители России не
оставили ее на новом пути, и, начиная с XVIII в., мы наблюдаем воплощение все
большего числа незаурядных индивидуальностей в среде нашего народа. Две из них,
возникшие на вершине власти, мы уже рассмотрели. Однако чаще такие
индивидуальности направлялись в культурный слой. Под несомненной инспирацией
Души Народа стояли те, кто заложил основы новой русской культуры: Ломоносов,
Карамзин, Пушкин и целый ряд тех, о ком речь у нас впереди. Их заслуга состояла
в том, что им,
во-первых, удалось взять из европейской культуры по преимуществу лучшее и,
во-вторых, создать на этой основе национальное искусство, тесно связанное с
процессами и задачами чисто русского развития. Последнее во многом было
обусловлено характером становления личности в самих представителях русской культуры.
Западные формы
жизни, мышления, познания, искусства отражают собой процесс становления
тройственной души на переходе от эпохи души рассудочной к эпохе души
сознательной. В этом процессе проблема овладения индивидуальным я-сознанием
решается в условиях поляризации души между аполлоническим и дионисийским
принципами. Их творческий синтез, осуществляемый под знаком действия Импульса
Христа, дает фаустовской душе характер целостной личности. В русских условиях
на пути к подобному синтезу встают трудности двух родов: во-первых, это
коренное тяготение национального характера к единой душе, а во-вторых - особая
опасность для души, ступившей на путь тройственного разделения, идущая со
стороны "пламени вожделений", подвижной и неочищенной стихии астрального тела.
Поэтому перед русской культурой встала задача отыскать такой путь
индивидуального развития, который бы нигде не порывал связи души с переживанием
единства. Благодаря Христианству, такой путь становится возможен. И в конце XIX
в. Вл. Соловьев заговорил о нем как об осуществлении идеи всеединства.
Напряженный духовный поиск, которым был занят XIX в., сделал возможным открытие
этой идеи. На пути к ней далеко не все оплотневало до сознательного
переживания, многое питалось чисто художественной интуицией. Однако Вл.
Соловьев сумел выразить эту идею во всеобъемлющей формуле. В работе "Критика
отвлеченных начал" он писал: "Если в нравственной области (для воли)
всеединство есть абсолютное благо, если в области познавательной (для ума) оно
есть абсолютная истина, то осуществление всеединства во внешней
действительности - в области чувствуемого материального бытия, есть абсолютная
красота. Так как эта реализация всеединства еще не дана в нашей
действительности, в мире человеческом и природном, а только совершается здесь,
и притом совершается посредством нас самих, то она является задачею для
человечества, а исполнение ее есть искусство". Иными словами, искусством
является само общение людей на пути к всеединству, общение, построенное на
принципах истины, красоты, добра.
В этих словах
Соловьева дана разгадка всей эстетики русской культуры, начиная с Андрея
Рублева, а если брать ее доиндивидуальный период, то и с Х-Х1 веков. Воплощение
идеи в красоте, явление ее эстетическому восприятию - вот тот путь через эпоху
души рассудочной, которым идет русская народность. Единство абсолютной истины с
добром и красотой образует второй, этический аспект этого пути. По этой причине
реализм русского искусства никак не мог ограничиться одной лишь чувственной
реальностью. С другой стороны, если красота - это прямая объективация идей, а
искусство есть их "область воплощения ...а не первоначального зарождения и
роста" (Вл. Соловьев), то правомерно говорить о русском реализме как о чистом
искусстве. Это совершенно ложное представление, будто "искусство для искусства" непременно теряет
связь с жизнью. Подобное может случиться из-за ложного понимания чистого
искусства, но ведь и внесение идеологии в искусство, низведение его до
служебной роли также приводит к потере его связи с реальной жизнью. У нас же
речь идет не об односторонностях искусства, а о его сути. Искусство рождается
из своих собственных законов. Художнику же достаточно лишь следовать им, а с
другой стороны - быть участником реальной жизни, и тогда его творения
преображают материю, весь феноменальный мир и дают идее возможность видимым
образом воплотиться в материи, обрести в ней бытие.
Наиболее совершенно чистое
искусство, создаваемое на аполлоническом принципе. Дионисийский принцип сложен
по той причине, что в нем слишком сильна игра субъективного.
Художник-аполлонист, если он верен своему искусству, как богоподобное существо
обозревает окружающую его реальность и дает выражение заключенному в ней миру
профеноменов. Первым значительным представителем этого искусства в России
явился А.С.Пушкин (1799-1837). В письме к поэту Жуковскому, отвечая на его
вопрос: какова цель поэмы "Цыгане", он с изумлением восклицает: "Вот на! Цель
поэзии - поэзия ...". И однако же все творчество Пушкина - это гениальное
выражение едва ли не всех сторон русской жизни. Подчас его упрекают в
поверхностности, в неспособности быть учителем жизни и т.п., но происходит это
от непонимания теми, кто сами страдают от дионисийского раздвоения личности,
того, как переживает человек свою душу в том случае, если не отождествляется с
ее противоречиями. Глубина пушкинского творчества состоит в том, что он ищет
Бога не в гипертрофированном психологизме, а за покровом чувственной
реальности, которой он говорит: Я понять тебя хочу, Смысла я в тебе ищу.
Из сообщений Р.Штайнера мы узнаем,
что Души народов проникают в ту часть души рассудочной, которая живет идеалами
прекрасного, морального.55 И тогда нам становится понятной огромная
роль Пушкина как художника, давшего высокопоэтическое выражение русской душе
рассудочной. Он, несомненно, стоял под непосредственным действием инспираций
Души Русского Народа, и через его творчество Она с первыми проблесками на Руси
культуры самосознания вывела процесс тройственной дифференциации индивидуальной
души, так сказать, на "солнечную сторону", туда, где русские, в силу
особенностей совершающегося в них эволюционного процесса, переживают единую
душу.
Весь северный поток переселенцев
из древней Атлантиды больше склонялся к аполлоническим Мистериям.
Метаморфизированное проявление их импульсов в культурно-историческом процессе
сказалось в склонности к закреплению индивидуального я-сознания в сфере эфирных
сил души рассудочной, будь то в форме инстинктивной мудрости, морального
императива или философской рефлексии. С другой стороны, эти аполлонические
импульсы уберегали души людей от погружения в насыщенный чувственностью мир
души ощущающей, и тем способствовали ее просветлению, воодушевляя идеалами
всечеловечества, присущими душе сознательной и первому элементу индивидуального
духа - Самодуху. Когда человек с подобной конституцией души идет путем
посвящения, то он отражает натиск страстей души ощущающей уже взойдя на ступень
интуитивного познания.
Характерной чертой аполлонического
направления в русской культуре было то, что оно впитало в себя влияние Гете,
немецкой идеалистической философии и эстетики. Так, именно Пушкину открылась
кардинальная для новой литературы тема фаустовской души. Хотя - и это вполне
естественно - на русской почве подобная тема должна была носить совершенно иной
характер, чем у Гете, ибо здесь совершенно по-другому проявляется феномен такой
души. Поэтому бессмысленно сравнивать пушкинскую "Пиковую даму" с "Фаустом".
Повесть Пушкина сильна верностью русскому, а не европейскому прообразу. Из нее
мы узнаем, насколько слаба, эфемерна русская фаустовская душа. Бросив вызов
трансцендентальным силам, она при первом же соприкосновении с ними теряет
рассудок. Даже гетевская Гретхен оказывается сильнее Германна: она противостоит
Мефистофелю, а рассудок теряет не от страха, а от горя. Германн у Пушкина, как
мужская ипостась мужески-женской единой русской души, соблазняется золотом и
предает свою женскую ипостась, но она, в отличие от гетевской Гретхен, не
погибает. Она у Пушкина благополучно выходит замуж за другого! Бездна
премудрости для нашего национального самопознания проистекает из этой
незатейливой на первый взгляд повести. Иначе пережил эту пушкинскую тему
П.И.Чайковский. Дионисиец в своем творчестве, он пережил ее изнутри. Его
музыкальная интуиция совершенно гениально выразила люциферический характер
Лизы, особенно в арии, обращенной к ночи. И потому у Чайковского в опере совсем
другая, по сравнению с пушкинской, Лиза. И тогда искушение Германна золотом,
Ариманом, соединяет их обоих в безысходный замкнутый круг, который они
разрывают лишь через смерть, смертью освобождаются от уз двуликого супостата.
* * *
Путями, родственными тем, на
которых в Европе возникли Гетевские естественнонаучные воззрения, шла при своем
зарождении русская наука. Первый русский ученый М.В. Ломоносов (1711 - 1765) не
видел противоречия между знанием и верой. Законы мышления, утверждал он, - это
законы бытия. В.Ф.Одоевский сказал о нем, что наравне с Лейбницем, Гете,
Карусом он "... открыл в глубине своего духа ту таинственную методику, которая
изучает не разрозненные члены природы, но все ее части в совокупности, и
гармонически втягивает в себя все разнообразнейшие знания".
Если не по содержанию, то по духу
следуя подобной методике, неповторимо выразил себя украинский философ, богослов
и поэт Г. С. Сковорода (1722-1791). Но наиболее значительным представителем
гетеанистического направления в русской культуре является В.Ф.Одоевский
(1803-1869). Творчество его многообразно. Он известен как писатель, философ,
музыковед, философ науки, педагог. В молодые годы им был создан небольшой
кружок любителей философии, получивший название "Любомудров". Этот кружок знаменит тем, что он
фактически ввел в культурный обиход русской жизни немецкую идеалистическую
философию. Большой интерес к ней, возникший в первой половине XIX века, не
следует объяснять только внешними причинами. Инстинктивная сила русского
реализма ощутила в ней, так сказать, вторую составляющую того кардинального
миро- и жизневоззрения, что дает равновесное переживание целостной личности и
особенно актуально именно для русской души (об этом говорилось в четвертом очерке).
Одоевского глубоко интересовала
философия Шеллинга: его натурфилософия и философия тождества, согласно которой
Абсолют состоит из идеального и реального как двух специфических, но совершенно
равноправных сторон. Развивая эту идею, Одоевский размышлял над вопросом, как
возможно познание. В небольшом наброске "Гномы XIX столетия" он пишет, что
явление и наблюдатель находятся в неразрывной связи. Вся совокупность явлений
составляет природу. Следовательно, природа "есть беспрестанное зрелище
человеческого духа", а жизнь духа состоит в беспрестанном наблюдении, или
созерцании.56 Но чтобы дух мог созерцать предметы, он должен быть
соизмерим с ними и находиться в отношении гармонии; условие же "гармонии и
соразмерности - однородность".
Поэтому "дух повторяется в
предметах; предметы повторяются в духе".57 Это не следует мыслить
непременно онтологически. Дух отождествляется с предметами, постигая их на
путях интеллектуальной интуиции (не рассудочно), благодаря тому, что в душе
познающего субъекта открываются их "прототипы" ("Психологические заметки"). В
процессе познания "дух стремится сделать себя предметом и вместе с тем
пребывать и духом". Это "противоборство" распадается на три момента: "I) дух
устремляется к предмету, 2) дух становится тождествен с предметом, 3) предмет
возвышается к духу". Каждому из этих моментов соответствует особая деятельность
человеческого духа: "Первый момент -дух, устремляющийся к предметам и
возвращающийся к духу - есть философия. 2-й - предмет, тождественный с духом, -
религия, 3-й - предмет, возвысившийся до духа, - искусство". 58
Кто знаком с сочинениями
Р.Штайнера, посвященными разработке мировоззрения Гете, без труда увидит в этих
рассуждениях Одоевского элементы теории созерцающего суждения. С другой
стороны, эти мысли Одоевского необычайно созвучны с приведенными нами ранее
взглядами Вл. Соловьева на трихотомию истины, красоты и добра.
Исходя из своих
теоретико-познавательных предпосылок, Одоевский строит понимание целостной
личности. В его записной книжке мы читаем (запись от 16 мая 1830 г.): "Что
наиболее меня убеждает в вечности моей души - это ее общность. На поверхности
человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во
глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все
добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих
элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе,
так же имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не
люди, но самобытная душа его; книги и люди
могут лишь ему представить предметы для сравнения с тем, что находится в нем
самом; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо
страсти, тот никогда не будет поэтом или - другими словами - никогда не
достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они
развиты лишь по индивидуальным характерам лица, один стремится извергнуть свою
душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится
открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства лишь внутри
святилища. В религии соединяется и то, и другое. Религия выносит на свет
некоторые из своих таинств и завесой покрывает другие. Оттого в каждом
религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое,
однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их
матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая ее, в
новейшие постарались заменить ее, в будущем они снова сольются с ней".*
* И еще нас поражает созвучие мысли Одоевского с кредо Р.Штайнера
"Единый и Вселенная" о единстве науки, религии и искусства, - произведением
человеческого духа, уже соединившего в познании миры чувственный и
сверхчувственный (см. ИПН 40).
Так возникает в русском мышлении
ставшая затем фундаментальной идея о нравственной природе познания. У
Одоевского она получает особенно отчетливое выражение благодаря тому, что его
познание нередко носит почти духовнонаучный характер. Законы природы и деятельности
человека общие, говорит он, только в природе они проявляются как "движение", в
человеке - как "совершенствование", что идентично с "познанием". В природе мера
движения обусловливает уровни бытия, в человеке совершенство обусловливает
уровень его духа, что соответствует и степени красоты. "Новые идеи могут
приходить в голову только тому, кто привык углубляться в самого себя,
беспрестанно представать перед собственное свое судилище и оценять все малейшие
свои поступки, все обстоятельства жизни, все невольные свои побуждения; в сии
минуты внезапно раскрываются перед нами новые миры идей" ("Психологические
заметки"). - Это, несомненно, посвятительный подход к проблеме познания.
Неважно, в какой мере, но в нем присутствует переживание интеллигибельного мира
как духовной реальности. Одоевскому ведомо, что доступ к ней мы получаем на
внутреннем и внешнем пути. Погружаясь внутрь себя, познающий встречается с тем,
что мы называем дионисийской природой; она либо побеждает человеческий дух
страстями, либо, будучи очищенной, субстанционально формирует понятия. На
внешнем пути наука без чувства религиозной любви, подчеркивает Одоевский,
растлит человека, вырастающего из родового в индивидуальное.
Философские взгляды Одоевского на
антропологию содержат в себе зачатки истинной антропософии. Поскольку он не
мыслит себе объективной реальности без познающего субъекта, то для него имеет
цену лишь целостное знание. Оно по своей сути едино, разнообразны лишь его
выражения. "Совершенное выражение познания есть истина. Неполное выражение
познания - ложь".59 Единое - это идея, познающее; познаваемое - это
"предметы, разнообразное". Иными словами, "идея = единому", и это есть "я-человек"; разнообразное -
это "не-я - все предметы". Но если это так, то все, что ослабляет "идею"
каждого человека, "его особенность, есть зло, безобразное, ложное; все, что
укрепляет его особенность, есть добро, изящное, истинное". Так в познании
человек обретает свою индивидуальность и сливается с миром. Но принципы
познания мира распространяются и на человеческое общество: "человечество в
отношении к планете есть разнообразное, в отношении к человеку - единое; все
люди вместе равны человечеству. Сие соединение единого с разнообразным
находится и в каждом человеке. Отсюда в человечестве та же лестница, как и в
природе, на всякой ступени человек соединяет идею с предметами ...".60
Завершение этой мысли Одоевского мы находим в "Философии свободы" Р.Штайнера,
где речь идет о том, что в конце этой "лестницы" человеку надлежит с
восприятием самого себя соединить идею свободного духа. С другой стороны, в
этих взглядах Одоевского мы видим становление соловьевской идеи "всечеловека".
Здесь уже философия переходит по сути в науку посвящения. И в этом следует
искать объяснение примата эстетического начала в познании.
Предчувствуя онтологическую
природу познания, Одоевский пытается постичь тайну индивидуального становления
через раскрытие категории сущего. "Жизнь всякого предмета, - говорит он, - есть
беспрестанное противоборство между родом и видом. Сие противоборство есть
сущее. Единое стремит предмет сделаться родом, разнообразие - видом. Отсюда
музыка отвечает роду, единому (которое можно мыслить как аспект высшего "Я",
добавим мы), живопись - виду, разнообразному (скажем, земно-индивидуальному "я");
поэзия - сущему. Отсюда в религиях превосходство духовного над вещественным;
оттого в благоустроенном обществе роды (ученые, богачи) преимуществуют над
видами (ремесленники, нищие)".61 Одоевский видит роль социального в
становлении я-сознания, в поднятии видового до уровня родового, что сопряжено с
немалыми страданиями, ибо: "несчастье сделаться видом" (страдающий Дионис).
Преодоление страдания - в возвышении индивидуального до общечеловеческого,
когда индивид вмещает в себя все человечество как единое. Проблема решается не
только познавательно, но и этически. - К целостному познанию может прийти лишь
этическая индивидуальность. Она возникает в том случае, если "при всяком
происшествии (мы) будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно,
но в следующем порядке:
1-е, человечеству,
2-е, родине,
3-е, кругу друзей или
семейству,
4-е, самому себе".
Обратный порядок есть источник
всех зол" ("Психологические заметки"). Но здесь мы уже оказываемся на вершине
души сознательной, в которую нисходит Самодух, и ступаем на Порог
сверхчувственного мира. Мы приходим к этому посвятительному моменту, очистив с
помощью сил познания и этики души самосознающей душу ощущающую. Это
принципиально важно на данном пути, поэтому злом является обратный порядок,
когда человек с неокрепшим "я" нисходит в сферу своего эгоизма.
"Стихия истины", по Одоевскому, есть интеллигибельный космос. Он
открывается людям, но в разной мере, а главное - в разной форме: поэтической,
понятийной, религиозной. Овладение им требует индивидуального
самоусовершенствования и группового взаимодействия на основе эстетики и морали.
Высший принцип взаимодействия для воплощения "стихии истины" в человеческом
обществе следующий: "Где же двое и трое соберутся во Имя Мое, аз стану посреди
их". Это второй общий закон для всех действий человека.62
"Христианство в своем обширном
предведении, - говорит Одоевский, - знало, что только из частных
совершенствовании может составиться совершенствование общее, из временных или
настоящих, - вечное".63 В этом состоит одно из главных отличий
Христианства от язычества, где познание существовало на инстинктивном уровне и
было даже более значительным, чем теперь. В Мистериях им обладали жрецы. И
поныне мы "... может быть, - говорит Одоевский, - не дошли до той точки, на
которой остановились древние мистерии, которые сами собою должны были
прекратиться, когда познания стали выходить из святилища" ("Психологические
заметки"). Но некогда человек кончит тем же, чем начал: найдя свои "инстинктуальные"
(врожденные) познания рациональным образом, он возвысит ум до инстинкта, т.е.,
скажем мы, до сверхчувственного опыта.
Придя к подобным взглядам на
эволюцию человечества, Одоевский не мог не коснуться вопроса о том, какое же
отношение имеет к ней отдельная человеческая душа с ее кратковременной земной
жизнью. И он приближался к идее реинкарнации, хотя высказывался об этом
осторожно. В "Психологических заметках" мы встречаем такую мысль: "Человек
когда-то потерял весьма блистательную одежду; он должен возвратить ее, может
быть для сего он проходит несколько степеней жизни; может быть, чего не достиг
он в одной степени, то должен отыскивать в другой до тех пор, пока не дойдет до
прежнего совершенства; тех метаморфоз, которые мы называем жизнью, может быть
бесчисленное множество; это мгновения одной общей жизни - мгновения более
долгие или более краткие, смотря по той степени совершенства, до которой достиг
он; так что, может быть, если человек усвоил себе какие-то познания, развил в
себе какие-то чувства, то он должен умереть, ибо истощил уже здешнюю жизнь в
той сфере, которая ему предназначена".
Вряд ли в этом высказывании
Одоевский использовал слово "человек" в собирательном смысле, ибо тогда его
следовало бы понимать не иначе, как в духе геккелевско-дарвинской теории
эволюции. Но в таком случае о каком "прежнем совершенстве" может идти речь?
Мы не берем на себя задачу дать
полный анализ мировоззрения Одоевского (как и - Пушкина). Отметим лишь еще, что
его природопознание было теософично.64 Свой реализм он постоянно
углублял до мистических переживаний и прекрасно выражал в литературных
произведениях ("Русские ночи", повесть "Саламандра" и др.). В
научно-философских взглядах он шел к синтезу реализма с идеализмом через врата
эмпиризма и оккультизма, которые, как мы знаем из Духовной науки, составляют
два главных душевных
настроения познающего субъекта, кармически обусловленные аспектами Солнца и
Луны (см. ИПН, 151). Таким образом, эволюция мировоззрения Одоевского протекала
в соответствии с законами Макрокосмоса.
Взгляды
Одоевского на Россию и ее отношение к Западу во многом предвосхищают идеи
славянофилов, двое из которых, И.В.Киреевский и А.С.Хомяков, посещали кружок
"Любомудров". Обращаясь к Западу, Одоевский говорит: "Не бойтесь, братья по
человечеству! Нет разрушительных стихий на славянском Востоке - узнайте его, и
вы в том уверитесь; вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и
умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые не
оскудеют от раздела с вами. Вы найдете у нас... историческую жизнь, родившуюся
не в междоусобной борьбе между властию и народом, но свободно, естественно
развившуюся чувством любви и единства, вы найдете законы... медленно, веками
поднявшиеся из недр родимой земли; вы найдете верование в возможность счастия
не одного большого числа, но в счастие всех и каждого".65
Для русской
культуры важны не только мировоззрение и литературное творчество Одоевского, но
и сама его личность. В нем пришел к выражению тип интеллигента с сильным
я-сознанием, изживаемым в душе сознательной- Такое явление не было типично для
России, но зато тем выше его значение. В нем был дан прообраз решения чисто
русской проблемы: как обрести единство в эпоху, когда вступающая в сознание тройственная
душа угрожает расщеплением личности. Поэтому важно познакомиться с той
позицией, которую занимал Одоевский в русском обществе. После восстания
декабристов деятельность кружка "Любомудров" пришлось прекратить, но, переехав
в Петербург, Одоевский открыл в своей квартире литературный салон. И это был,
по тем временам, совершенно особенный салон. Там, как вспоминает один из его
посетителей, Ф.Тимирязев, "все были равны - в буквальном смысле этого слова". А
посещали его люди разного сорта: аристократы высшего света, к которому
принадлежал и сам Одоевский, дипломаты , сенаторы, но также люди науки,
искусства, подчас разночинцы по своему социальному положению. У князя
Одоевского можно было наблюдать сановника в позументах, с широкой лентой через
плечо, содержательно беседующим господином "в сюртуке горохового цвета". И тем
не менее весь Петербург считал за честь быть принятым в этом удивительном
салоне.
Одоевский
понимал, что лишь продолжительное, настойчивое, правильно подставленное
воспитание способно образовать в русском обществе тот слои, который сможет
изменить социальную жизнь полезным для России образом. Антисоциально, если одни
ведут праздную жизнь за счет других. Но преодолеть это можно только путем
"возвышенности и благородства духа", путем привития людям совестливого
отношения к исполнению долга, терпимости и понимания того, что кроме собственно
человеческих намерений в их дедах еще вершит и провидение ("Записные книжки").
Последнее не мыслилось Одоевским в виде некоего фатума, ибо его собственные
социальные взгляды коренились не в мистике, а в оккультизме. Он много
интересовался древней алхимией, но понимал при этом, что на смену ей пришла
социальная алхимия, субстанции которой - мир человеческих душ.
Кислота и щелочь,
говорил он, это суть символы действия и воздействия в истории, а условия
существования общества (о чем знали древние) обусловлены сочетанием четырех
алхимических стихий, социальный аспект которых суть: наука, искусство, любовь
и, как их альфа и омега, - вера.
Одоевский пытался
на практике стать таким социальным алхимиком, видя в этом свою общественную
задачу и роль.66 Писатель В.А. Соллогуб, посещавший салон, так
рассказывал о самом хозяине: он "то прислушивался к разговору, то поощрял
дебютанта, то тихим своим добросердечным голосом делал свои замечания, всегда
исполненные знания и незлобия. ...Все понимали, что хозяин ... не притворяется,
что он их любит ... во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы
образованию".
Итак, в лице князя
Одоевского нам предстает русский человек, в известной мере приведший в опыте
своей жизни к единству два древних пути посвящения и таким образом переживший в
себе действие Импульса Христа в целостной человеческой личности. Он являл собой
индивидуальность, в которой увенчался успехом тот древний путь развития, в
начале которого норманны внесли свет познания в "ствол" единой славянской души.
Многое изменилось с того времени. С одной стороны, славяне стали способны
переживать в себе индивидуальное сознание, с другой - культурные импульсы
средней Европы обрели характер гетеанизма и высокой идеалистической философии.
И вот, когда все это пришло в органическую взаимосвязь, возник тип личности,
ставший прообразом для всех тех русских людей, которые, обладая определенными
особенностями, обусловленными их национальностью, общими
культурно-историческими условиями, хотят развить в себе высшее начало и
поставить его на служение своим ближним, всему человечеству.
Одоевский в своих
философских и спиритуальных воззрениях был не одинок. Особенно близко к нему
примыкал чрезвычайно многообещающий, но рано умерший другой член кружка
"Любомудров" Д.В. Веневитинов (1805-1827). Станкевич писал о нем в 1838 г. в
письме к Грановскому: "... у Веневитинова было художественно-рефлективное
направление вроде Гете ...". Особой страстью Веневитинова была философия,
которую он рассматривал как науку о "познании самого познания", протекающего в
идеях и понятиях, имманентных человеческому духу, за которыми не стоит еще
особого мира трансцендентных идей. Как и Одоевский, он считал, что процесс
познания в своей исходной точке имел "всеведение", когда люди, хотя и
по-детски, были прирожденными натуралистами. Но потом они с природой
"раззнакомились", и возникла философия. Ее цель - вновь образовать "гармонию
между миром и человеком" и снова привести последнего к "всеведению". Процесс
самопознания вызвал внутри человека раскол между мыслью и чувством.
Преодолевается он с помощью мысли, т.е. опять философии67.
Таковы были те
значительные представители русской культуры XIX века, духовные и художественные
импульсы которых возводимы к древнейшему мистериальному аполлоническому началу.
К их числу можно также отнести (по духу их творчества) и художника Брюллова, и
композитора М. И. Глинку, поэта Жуковского, писателя И. А. Гончарова и немало
других.
* * *
Исполненной
трагизма была судьба другого - дионисийского начала в русской культуре. Первым
проявлением его явился сентиментализм, а "Бедная Лиза" Карамзина - наиболее
характерным произведением этого направления. В этой повести впервые в русской
литературе ясно и определенно заявляет о себе пробудившаяся к индивидуальной
жизни душа ощущающая. Жизнь чувств в русской душе в ту пору носила еще довольно
целостный характер за счет того, что была более инстинктивной. Но постепенно в
ней стали вычленяться отдельные доминанты, о которых мы говорили в связи с
творчеством Левицкого. Выступление души ощущающей внесло в жизнь чувств более
автономное, индивидуализированное начало. Она ослабила сферу инстинктов, и
человек стал искать новые формы отношений во внешней жизни, чтобы в них обрести
опору для своего нарождающегося "я". Этот процесс был сопряжен с переоценкой
всех ценностей, созданных на старой инстинктивной основе. Здесь начинается
мятежный путь фаустовской души, и успокоение ей дано обрести лишь на вершинах
души сознательной, где укрепленное "я", взошедшее к сопереживанию
всечеловеческих интересов, приводит человека к гармоническому созвучию, к
синтезу чувства, мысли и дела. Но на пути к высокой цели душе предстоит
трагическое, мучительное разделение, внутренняя душевная борьба. Гениальным
певцом этой борьбы стал М.Ю.Лермонтов (1814-1841). В личности Лермонтова
находит свое реальное продолжение и развитие тот строй чувств и мыслей, что
нашел свое первое литературное выражение в "Бедной Лизе".
Вл. Соловьев уже
в конце жизни писал о Лермонтове, что видит в нем "...прямого родоначальника
того направления чувств и мыслей, а отчасти и действий, которые для краткости
можно назвать "ницшеанством". Это исключительно верное по сути определение,
хотя до конца Соловьев не смог понять ни Ницше, ни Лермонтова, поскольку ему
самому, в силу личной судьбы, было дано без особого трагизма прийти к конечной
цели того пути, по которому шли и Ницше, и Лермонтов, и многие-многие другие,
родственные им по духу люди. Однако чего недопонял Вл. Соловьев - не столь
существенно, ибо в культуре редко встречается универсальный дух, способный
объять все и нигде не наделать ошибок.
Ницше является
одним из ярчайших представителей дионисийского начала в европейской культуре.
Для нас важны не только его литературные труды (они, разумеется, не однозначны
и далеко не бесспорны), но и глубоко честная и бескомпромиссная постановка
проблемы личности, человеческого "я" в условиях новой культуры. Мы уже
говорили, что не случайно возникла материальная культура с ее гипертрофией зла.
Это плата за последнюю грань человеческой свободы, которая реализуется на самом
дне физического бытия в условиях богооставленности и чудовищных искушений. И
нужно уметь понять эту уникальную стадию развития. В ней истинное Христианство
мы скорее находим у Спинозы и Гете, чем в церковной проповеди, где Имя Божие
повторяется на все лады, но всуе. У Ницше есть одно стихотворение, которое
называется "Неведомому Богу". Если мы в состоянии понять, что душа Ницше
раскрывается в нем как подлинно христианская, то нам станут понятны те
индивидуалистичность и одновременно трагизм, сопровождающие тройственную душу
на пути к Богу, на пути, идущем от родовой религии к свободному исповеданию "в
духе и истине" Бога высшего человеческого Я. Это стихотворение звучит примерно
следующим образом:*
* В его трех частях выражены по отдельности природа чувства, мысли
и воли - не только в смысле, но и в ритме звучания; особенно хорошо это
передается эвритмически.
Но прежде, чем в
далекий путь отправлюсь
И обращусь к
тому, что брезжит впереди,
Я воздымаю к небу мои руки, К Тебе,
Кому я в
одиночестве молюсь, К
оторому из сокровенной сердца глубины
Я алтари воздвиг,
Чтоб вечно, каждый миг
Твой глас звучал
во мне, не умолкая.
На них, огнем
запечатленные, мерцают Слова:
Неведомому Богу. И пусть в толпе преступной буду
До той поры, когда все сроки истекают,
Я - Твой, и чувствую - меня силки
сжимают,
Влекут помимо воли на борьбу,
И если б даже мог - не убегу.
Служить
Тебе они меня неодолимо принуждают.
Неведомый, хочу Тебя познать,
Как глубоко
Ты можешь в душу проникать,
Подобно шторму море жизни волновать!
Хоть необъятен
Ты - меж нами есть родство!
Хочу Тебя познать и сам Тебе служить.
В русской
культуре Лермонтов оказался первым и необычайно ярким, талантливым выразителем
дионисийского расщепления личности. Мережковский, сравнивая его с Пушкиным,
считал поэтов антиподами. Пушкин был созерцателем; в жизни он был на людях, в
творчестве оставался один. Лермонтов, наоборот, был деятелен, и в
созерцательности видел смерть для поэта. В творчестве он всегда стремился к
людям, в жизни был одинок. "Пушкин, - говорит Мережковский, - дневное,
Лермонтов - ночное светило русской поэзии. Вся она между ними колеблется, как
между двумя полюсами".68 Мережковский прямо называет Пушкина
Аполлоном, а Лермонтова защищает от хулителей дионисизма. Мятежный дух
дионисийского импульса культуры получал плохой прием на русской (да и на
европейской) почве. Но его действие в эволюции оправдано. И поистине гениальна
мысль Мережковского, когда он в качестве аргумента в защиту Лермонтова приводит
борьбу Иакова с Богом. Да, Сам Бог благословил человеческую душу идти путем
индивидуализации от души ощущающей через рассудочную к сознательной. Потому-то
спасен в эпилоге и гетевский Фауст.
Фаустовская душа исполнена
противоречий, ибо ей "мила земля" и одновременно "небесные поля". Таков и
Лермонтов. Он восклицает:
Тем я несчастлив,
Добрые люди, что звезды и небо -
Звезды и небо! - а я человек!
В то же время в нем пылает
страстная жажда жизни:
Ты хочешь знать, что делал я
На воле? - Жил, и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
("Мцыри")
Или:
Не обвиняй меня,
Всесильный,
И не карай меня, молю,
За то, что мрак земли могильный
С ее страстями я люблю...
И это не только поэзия. О себе
самом Лермонтов пишет: "je suis aussi un lion " (я тоже лев);
или: "Oh, cela sera charmant! D'abord des bizarreries,
des folies des toute espece et de la poesie noyee dans le champagne ". (О это восхитительно! Самые разные безумства и поэзия, утопленная
в шампанском.).
Что и говорить, немногим
понравятся подобные откровения в стране, где не только поэт, а вообще писатель,
интеллигент всегда воспринимался едва ли не как пророк. И тем не менее, России
было не миновать душевного дионисизма, раз она стала на европейский путь
развития. И не только поэтому. Фактически все христианское воспитание, каким
оно было перенято древней Русью у Византии, по преимуществу имело дело с
внутренним души, т.е. с античным дионисийским наследием. В этом наследии коренилось
жало древнего люциферического искушения. Отшельники и пустынники знали это,
вступая в трудную борьбу за очищение души. Но в XIX в., когда дионисийский
импульс стал выражаться в культуре, об этом забыли. Однако, кто желал, тот мог
видеть, какие духи заявляют о себе в искусстве века, ибо они открыто заговорили
о себе сами. Лермонтовский "Демон" - это сам Люцифер. В поэме налицо все черты,
характеризующие его: он не смеется, не лжет, некогда "в жилище света, блистал
он, чистый Херувим ...". Лермонтов вскрывает трагизм человеческого бытия,
предопределенный тем, что Люцифер, искусив человека, связал с ним свою судьбу.
Поэтому, спасаясь сам, человек спасает и Люцифера. Через не утративший себя
человеческий дух Люцифер высказывается иначе, чем в одиночестве:
Какое горькое томленье ...
Жить для себя, скучать собой. ;
..........................................
Хочу я с небом примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я веровать добру.
Но переменчив нрав Люцифера, и
человек, получив от него дар свободы, был вовлечен им в богоборчество, от
которого "есть два пути, одинаково возможные, - к богоотступничеству и к
богосыновству.69
Сам Лермонтов жил напряженной
борьбой добра со злом, но исход ее остался неясен. Лермонтов рано погиб, и уже
никто не узнает, как могло бы пойти его дальнейшее развитие. В то же время,
происходящее в нем несравненно значительнее того, что мы находим в образе
пушкинского Германна. Пушкин лишь возвестил: в культуре оживает Дионис. Значения
борьбы в дионисийской душе он не постиг. Поэтому уже Чайковский в своей
музыкальной трактовке выразил в финале оперы тему победы героя, одержанной
через смерть. Одухотворяясь, любовь Германна к Лизе приобретает истинную силу.
Видимо, к внутренней победе шел и Лермонтов. В его последнем рассказе "Штосе",
который считают неоконченным (его окончание совершается в веках), главный
герой, Лугин, обращается, как и Германн, к картам, но в его игре с темным
ариманическим духом на кон поставлено "чудное и божественное видение", видение
"Вечной Женственности", как замечает Мережковский. И Лугин решает играть, "пока
не выиграет; эта цель сделалась целью его жизни". Остается только поражаться,
сколь углубляется пушкинская тема, проходя сквозь душу и жизненный опыт дионисийца.
Лермонтов фактически постиг
двойную люциферически-ариманическую природу Мефистофеля и выразил ее в разные
периоды своего творчества. От искушающей силы влекущего прочь от Земли гордого
духа одиночества, демона, он пришел в конце своей короткой жизни к переживанию
опасности прямо противоположного рода. Оппонент Лугина в игре, пишет
Мережковский, "... старичок-привидение: воплощение древнего хаоса в серенькой
петербургской слякоти, воплощение природы, как бездушной механики, бездушной
материи, у которой в плену душа вселенной, Вечная Женственность. Для того,
чтобы освободить ее из плена, человек собственную душу свою ставит на карту".
Подобную игру вел и сам Лермонтов.
В ней он прошел путем Фауста, описанным в первой части гетевской драмы, и лишь
в творчестве своем успел наметить дальнейшее. Этим объясняется противоречивое и
часто негативное отношение современников к поэту. Чествовать любят победителей,
процесс же борьбы не всегда выглядит эстетично. Вот почему мужчины испытывали
какую-то необъяснимую тягу к Лермонтову, но одновременно в страхе шарахались от
потомка "шотландского чернокнижника" Фомы Лермонта; "женщины, по первобытному
греху любопытства, влекутся к нему, видят в нем "демона", как тогда говорили"
(Мережковский). Сам же Лермонтов хочет быть "как все". Душа ощущающая хочет
земного воплощения. Но поскольку в ней дремлет магическая сила древнего
Вяйнямёйнена, то она вызывает некоторый страх, пока
пепел интеллектуальной культуры не подернет это живое пламя сверхчувственного.
Спасение для нее лишь в беспрерывном стремлении к синтезу мысли и чувства на
высотах души сознательной, а до той поры она обречена на муку:
И как преступник перед казнью,
Ищу
кругом души родной.
Потерять связь с землей для нее страшнее
смерти, ибо движение начато, и пути назад уже нет. Порвана связь с
инстинктивной основой жизни, и восстановить ее в прежнем виде уже нельзя. Вот
почему "неземная любовь к земле - особенность Лермонтова, едва ли не
единственная во всей мировой поэзии".71 Она единственная еще и по
той причине, что русские, как никакой другой народ в мире, тесно связаны с
землей. Для них она земля Божия - Матерь Божия, предстательница человеков перед
Сыном. Ей поклоняется русская душа в культе Вечной Женственности. "Христианство
отделило прошлую вечность Отца от будущей вечности Сына, правду земную от
правды небесной. Не соединит ли их то, что за Христианством, откровение Духа -
Вечной Женственности, Вечного Материнства? Отца и Сына не примирит ли Мать?".72
Перед Нею, Космической Матерью,
Софией, Божественной Премудростью и склоняется дионисийская душа русского поэта
уже не в стихах, а в молитве:
Я, Матерь Божия, ныне с молитвою
Пред твоим
образом, ярким сиянием,
Не о спасении, не перед битвою,
Не с благодарностью иль
покаянием,
Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в мире безродного,
Но поручить хочу душу невинную
Теплой Заступнице мира холодного.
Лермонтов прошел путем, полным
опасностей, и когда "погиб поэт... и взят могилой", мы как бы слышим над ним
звучание хора Ангелов из заключительной сцены "Фауста":
К любви лишь
причастного
Любовь вознесет!
Еще трагичнее, чем у Лермонтова,
был опыт внутреннего пути у другого большого духа русской культуры, у
Н.В.Гоголя (1809-1852). Его жизненная драма по сути своей подобна
Лермонтовской, хотя выражение имела совершенно другое. У него также была
"неземная тяга к земле". Юношей он пишет матери: "Во сне и наяву мне грезится
Петербург и служба государству ..."; а в конце жизни он скажет: "Предмет у меня
всегда был один и тот же: предмет у меня был жизнь, а не что другое". "Мне
хотелось служить земле своей ...". Но в Гоголе живет иное, чем в Лермонтове, -
переживание "первозданных элементов души", от которых "все страшно отдалились".
Он больше ощущает эфирные силы души (недаром он был украинцем и даже казаком по
происхождению), и потому в нем с особенной остротой встал разлад не между
чувствами, а между чувством и мыслью. Гоголь говорил
о Пушкине, что находит у его гения два начала: одно влекло его в "область
бестелесных видений" и было в общем христианским, другое, как бы языческое,
вызывало "прикрепление души к телу". Но таким образом Гоголь охарактеризовал не
столько Пушкина, сколько самого себя, сложную духовную организацию своей души.
Проистекающее из астрального тела люциферизированное начало русской души, столь
могуче преобладавшее в Лермонтове, вызывало у Гоголя лишь желание преодолеть
его. Здесь следует искать источник его юмора. Люцифер - дух сумрачной
серьезности и не выносит смеха. "Уже с давних пор, - писал Гоголь Шевыреву (27
апреля 1847 г.), - я только и хлопочу о том, чтобы после моего сочинения
насмеялся вволю человек над чертом".
Что черт - реальность, не вызывало
у Гоголя сомнений, ибо он переживал его ясновидчески и подробно описывал: "Он
шелкопер и весь состоит из надувания... Стоит только немного струсить и
податься назад - тут он и пойдет храбриться. А как только наступишь на него, он
и хвост поджал". Однако из этого описания мы видим, что у Гоголя речь идет не о
люциферическом, а об ариманическом существе, которое смеха не боится, потому
бороться с ним надо иными средствами. В этой-то ошибке и было начало душевной
трагедии Гоголя.
Он не только художественно, через
творчество, но и сверхчувственно, шел как бы снизу вверх от души ощущающей и
проникал к стихии эфирных сил, из которых ткется душа рассудочная. В отличие от
него Пушкин подходил к душе рассудочной извне, через эстетический элемент, в
котором человека ведет сама Душа Народа, и потому ничем не рисковал. На внутреннем
пути человеку со сверхчувственным опытом надлежит двигаться силой принципа: "Не
я, но Христос во мне". Гоголь этого не знал, черта же узрел. В его "Вечерах на
хуторе близ Диканьки", в "Страшной мести" встают не просто фантастические
образы народных поверий, а собственный (пусть весьма туманный) опыт автора,
переживание спиритуальных сил природы во внутреннем души.
Отношение к духам природы имели и
Жуковский ("Ундина"), и Одоевский ("Саламандра"). Но в их произведениях встают
элементарные духи природы, открывающиеся ясновидческому взору как объективный
мир за внешним физическим покровом. В творчестве Жуковского и Одоевского в этот
мир вносится христианское начало: духи природы приобщаются к моральным
ценностям человека, они не враждебны ему, и если даже увлекают за собой, то
будучи обуреваемы глубоким чувством любви. Здесь повсюду человек независим от
мира природы, она лишь откликается на его мысли и чувства или служит их
выражению. Пушкин переживал ее эстетически: "озер лазурные равнины", "в багрец
и золото одетые леса", "и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит"
и т.д.
У Лермонтова природа и внутреннее
души неразрывно слиты. Если в душе бушуют страсти, то реки несутся с "гордым
бешенством", облака "кипят", им присущи "страсти"; чувству одиночества созвучны
иные облака: "вечно холодные, вечно свободные". Душа сопереживает боль камней:
И железная лопата
В каменную
грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь,
растений:
Изрублены были
тела их потом,
И медленно жгли их до утра огнем.
Гоголь идет еще дальше. У него
духи природы слагают субъективный мир души, и потому они кардинально отличаются
от тех, которых мы встречаем у Одоевского или Жуковского. И это понятно. Идя
верхним, аполлоническим путем, человек выходит (в художественном воображении
или реально) из тела во внешний мир, покидает свое низшее "я", эго, со всеми
его отрицательными свойствами. На внутреннем пути он как раз погружается в мир
своего эго. Тогда все страсти и пороки встают в зримом облике, и то, что
созвучно им в природе, носит более низкий, ариманический (а во многом и
субъективный) характер.
Лермонтов останавливается на
полпути и сопереживает природу лишь астральным телом, которое хотя и
отождествляется с воспринимаемым предметом, но переживает в природе или свое же
собственное, или то, что носит в ней люциферический характер. Для Гоголя
природа населена упырями, вурдалаками - духами, чуждыми всякой морали,
враждебными человеческой личности. Они принадлежат к ариманическому царству и
возникли в более поздние времена; в эпоху древней Греции их еще не было.
В человеческом царстве
сверхчувственный опыт привел Гоголя (он у него был, вероятно, совсем
незначительным, но зато соединялся с большой художественной интуицией) к
переживанию человеческих двойников. В двойнике, как квинтэссенции, выражается
тот или иной состав отрицательных качеств личности, концентрируясь в
определенный типаж, антиличность, или - в "личину" личности. Потому столь ярки
литературные образы Гоголя, и потому они столь гротескны. За каждым из них
стоит реальное сверхчувственное существо, сотканное из определенных пороков той
или иной группы людей. Познание двойника поучительно, но не всякому может
прийтись по вкусу; для самого же Гоголя все кончилось катастрофой, когда он
осознал, кого описывал в своих произведениях, ибо двойник живет в каждом
человеке, а значит - и в Гоголе.
Проблема добра и зла встает перед
дионисийской душой при переживании собственных недостатков. Потому именно
Лермонтов и Гоголь с большой силой ставят ее в русской литературе. "Я люблю
добро, - говорит Гоголь о себе, - я ищу его и сгораю с ним; но я не люблю моих
мерзостей... Я воюю с ними и буду воевать, и изгоню их, и в этом мне поможет
Бог". Этой личной цели служило Гоголю и его творчество, которое объективировало
его внутренний опыт и так вело к самопознанию. "Во мне, - говорит он в другом
месте, - заключалось собрание всех возможных гадостей и притом в таком
множестве, в каком я еще не встречал доселе ни в одном человеке... Если бы они
открылись вдруг все и разом перед моими глазами, я бы повесился... Я стал
наделять моих героев моей собственной дрянью".
Да, действительно, встреча с
собственным двойником - огромное испытание, трудное даже для подготовленного
ученика оккультизма. Человек же без специальной, эзотерической подготовки (а
таковым и был Гоголь) вынести рго просто не в состоянии, ибо в двойнике
человеку предстает совокупность зла, совершенного им во всех прошлых
инкарнациях. Путем продолжительной молитвенно-медитативной практики готовились
к такой встрече христианские подвижники, но и тогда бывали несчастные случаи,
один из которых мы приводили, говоря о печерских старцах.
И однако же Гоголь, давая
отрицательную оценку себе и своему творчеству, был не во всем прав. Что
открывалось ему в окружающей жизни - это были действительные прообразы (пусть
отрицательные), которые питают всякое творчество. А что познание их соединилось
в нем с самопознанием, то это было его личной проблемой. Но как бы там ни было,
со временем то, чего Гоголь боялся увидеть, "вдруг все и разом", достигло такой
интенсивности, что он не выдержал. Переживание двойника исторгло у него крик,
прозвучавший на всю Россию: "Соотечественники! страшно!... Стонет весь
умирающий остов мой...". Но кто мог понять этот эзотерический крик? Все
отвернулись от писателя. Он и раньше-то, подобно Лермонтову, вызывал в
окружающих некий метафизический страх, теперь же все решили: Он "впал в
прелесть"; а потом: "сошел с ума". В действительности же это был пусть
трагический, но истинный и поучительный опыт самопознания. Гоголь совершил
оккультную ошибку: преследуя смехом Люцифера, не разглядел, как с другой
стороны подкрался ариманический дух и явил себя в оболочке неизжитой кармы
Гоголя.
В каждом человеке борются между
собой люциферический и ариманический духи. Этим они взаимно уравновешивают
(или, можно сказать, погашают) один другого. Человек имеет задачу силой Христа
постоянно удерживать и укреплять это равновесие, бесстрашно идя к познанию
действующих в его основе сил. Отогнав от себя Люцифера, который не выносит
иронии, сатиры, Гоголь оказался в положении, когда вся сила неуравновешенного
Люцифером ариманического двойника обрушилась на него, и он ринулся в
противоположную сторону - к Люциферу. Его покаяние носило характер
самоистязания, он почти совсем перестал есть, сжег все свои рукописи, в том
числе и вторую часть "Мертвых душ", и умер, так и не выходя из депрессии. Когда
Гоголя уже не стало, кое-кто понял значение борьбы, которую он вел. С.Т.Аксаков,
считавший прежде, что любить Гоголя как человека просто "невозможно", после его
смерти сказал: "Я признаю Гоголя святым".
При жизни Гоголь размышлял о
ступенях сверхчувственного опыта, о духовной "лествице" подвижника Иоанна. В
конце своей "переписки" он говорит: "Бог весть, может быть, за одно это желание
(высшей любви) уже готова сброситься с небес нам лестница и протянуться рука,
помогающая взлететь на небо".* Можно думать, что эта рука была ему протянута -
в самой смерти. Описывая лицо мертвого Гоголя, Мережковский говорит, что оно "... нечеловечески-странное,
белое, тонкое, острое-острое, как слишком отточенное лезвие; тут как-будто в
самой неподвижности - движение, стремление, полет бесконечный; теперь ему уже
не надо "лестницы" - он летит. И ни одной тени того "черного христианства",
которым пугал его отец Матфей, в сияющей белизне этого лица: это ... не смерть,
а Светлое Воскресение".
* Говорят, что последними словами Гоголя было: "Лестницу! Скорей
давайте лестницу!"
После Гоголя проблеме познания
двойника многое в своем творчестве посвятил Ф.М.Достоевский (1821-1881). Но, в
отличие от Гоголя, Достоевский объективирует обе стороны двойника: и
ариманическую, и люциферическую. Первая в своей квинтэссенции является как черт
Ивану Карамазову, вторую образует весь напряженный и даже болезненный
психологизм героев его романов. Достоевский провидит природу черта глубже, чем
Гоголь, распознает его как неправомерное вторжение ариманической власти во всю
социальную жизнь ("Бесы"). Перед Иваном Карамазовым черт откровенничает: "...
ведь я и сам, как ты же, страдаю от фантастического, а потому люблю ваш земной
реализм. Тут у вас все очерчено, тут формула, тут геометрия... Моя мечта - это
воплотиться, но чтоб окончательно, бесповоротно".
Не следует, конечно, терять
чувство юмора, имея дело с подобным существом, однако для победы над ним нужен
реализм, восходящий до духопознания. Тогда открывается уязвимое место
ариманических духов: они не выносят своих антиподов - люциферических духов,
действующих в человеческой фантазии, в процессах художественного творчества.
Потому решение социальной проблемы - только в синтезе религии, науки и
искусства, в той религиозно-поэтической науке, о которой мечтал Одоевский.
Односторонняя отдача себя фантазии, или фантастическому, особенно в социальном
мышлении, приводит к гипертрофии люциферических сил, персонифицированных у
Достоевского в образе Великого Инквизитора.
Возможно Достоевский не совсем
ясно осознавал двойственную природу мефистофельского духа, но он глубоко
чувствовал, что победу над ним можно одержать только силой Христа. Как русский,
Достоевский искал опоры в связи с землей. Она была для него Матерь Земля, через
которую "таинственными рунами" говорит к русским Душа Народа. Связь с землей
пробуждает в русских те сущностные силы, что заложены в их астральные и эфирные
тела Самим Христом. Исходя из этого следует понимать "почвенность"
Достоевского. Но Достоевский не привел своей души к высшему синтезу. Он лишь
наравне с Лермонтовым и Гоголем указал на опасности. А если мы желаем увидеть,
в ком этот синтез был осуществлен, то мы должны обратиться к Чаадаеву.
П.Я. Чаадаев (1794-1856) - фигура
в русской культуре исключительная. Он оставил по себе неизгладимый след в
памяти потомков. Пушкин сказал о нем: "Он в Риме был бы Брут, в Афинах -
Периклес"; хотя его творческое наследие умещается в двух томах, а для
послужного списка достаточно нескольких строк. Все значение Чаадаева
заключается в нем самом, в некоем "осуществлении", к которому он пришел в своей
жизни. Мандельштам писал о нем: "Россия в глазах Чаадаева принадлежала еще вся целиком к неорганизованному
миру. Он сам был плоть от плоти этой России и посмотрел на себя как на сырой
материал. Результаты получились удивительные. Идея организовала его личность, а
не только ум, дала этой личности строй, архитектуру, подчинила себе ее всю без
остатка и, в награду за абсолютное подчинение, подарила ей абсолютную
свободу".*
* Мы цитируем по рукописному тексту статьи Мандельштама о
Чаадаеве, которая при публикации была в наиболее важных местах сокращена.
В этом и состоит разгадка тайны
Чаадаева. Исстари на Руси люди славились делами, духовными подвигами; за такими
людьми шли как за светочами, им подражали. Эта черта сохранилась в национальном
характере и во времена, когда начало пробуждаться индивидуальное самосознание.
Но не все в почитании Чаадаева потомками подлинно. Западники подхватывают его
критику России и объявляют, что он-их. Другие во что бы то ни стало хотят
сделать из него революционера, третьи - католика. Но все это не имеет
отношения к подлинному Чаадаеву. Его критика русской жизни просто не понята, а
по поводу восстания декабристов он писал в 1829 г.: "...мы принесли с собою (из
Европы после войны с Наполеоном) лишь идеи и стремленья, плодом которых было
громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад" ("Философические письма",
письмо 1-е). О том, насколько прав Чаадаев в этом суждении, мы говорили в
предыдущем очерке. Как и люди из круга Одоевского, Чаадаев видел способ
возрождения России единственно лишь в воспитании ее наиболее духовно развитого
слоя. Этой деятельности он и посвятил себя, но пришел к ней не сразу, а лишь
после большой внутренней борьбы и работы над собой.
Чаадаев происходил из
аристократического рода. О его отце мало что известно, мать же была дочерью
князя Щербатова (историка). Чаадаев очень рано осиротел, однако стараниями
горячо любившей его тетушки получил хорошее воспитание. Его карьера началась в
армии. Он участвовал в войне с Наполеоном, а потом перед блестящим офицером
открылась перспектива войти в круг приближенных самого императора. И вдруг
Чаадаев подает в отставку и этим резко меняет весь ход своей жизни. Причина
такого шага носит чисто внутренний характер.
В душе Чаадаева, и видимо с ранних
лет, шел напряженный духовный поиск, приведший его в масонскую ложу, где он
достиг восьмой ступени. Однако, как и в службе, все кончилось разочарованием.
Чаадаев покинул масонство по той причине, "что в нем ничего не заключается,
могущего удовлетворить честного и рассудительного человека". В Чаадаеве
назревала та трагическая раздвоенность, когда "ум с сердцем не в ладу"
(Грибоедов). Но она у него носила иной характер, чем, скажем, у Лермонтова и
Гоголя. Дело в том, что Чаадаев обладал поистине незаурядным умом мыслителя,
философа, в сфере же его чувств происходил некий процесс, сопровождавшийся
определенным прозрением в область сверхчувственного. Будь он поэтом или
писателем, ему бы не миновать участи, подобной гоголевской, будь он только
мыслителем, его возможно постигла бы судьба Ницше. Но он был типично русским
человеком, которому, как он сам говорил, "надлежит соединять в себе оба великие
начала духовной природы: воображение и рассудок" (Письмо 1-е).
Исключительно важно было, что Чаадаев это осознал, и не только это, но еще и то
ключевое, чем "замыкается круг". В 1837 г. он писал М.Ф. Орлову: "Ты из числа
тех, которые еще думают, что жизнь не есть нечто цельное, что она переломлена
на две части и что между этими частями существует бездна. Ты забываешь, что
скоро уже восемнадцать с половиной веков, как эта бездна наполнена". (!)
Так глубоко, мистериально, скажем
мы, мыслил Чаадаев в 42 года, когда победа была им уже одержана, но на пути к
ней ему пришлось выдержать кое-что, оказавшееся не по силам Гоголю,
возопившему: "Стонет весь умирающий остов мой!" Некоторого стона не сдержал и
Чаадаев, что дало повод ничего не понявшим в этом потомкам (например
Гершензону) обвинить его в капризности. В течение целого ряда лет он мучился
болезнью, которой не мог понять ни один врач, ибо она заключалась в катарсисе
астрального тела. В былые времена, как мы уже говорили, святые подвижники, дабы
скрыть сам процесс очищения от окружающих, уходили в затвор. Чаадаеву это было
не дано, ему надлежало оставаться в обществе. Но он все же уехал за границу и
два года скитался там в одиночестве. От той поры сохранились дневниковые
записи, куда его никогда не терявший над собой контроля ум заносил наблюдения
над душевным процессом. Гершензон находит, что этот дневник - объект для
психиатрии. Что ж, и при жизни Чаадаева так думало некоторое число лиц,
объявивших его сумасшедшим после опубликования первого философического письма.
Но его "безумие пред людьми" поистине есть "мудрость пред Богом". Самому
Чаадаеву был дорог его дневник, о чем свидетельствует тот факт, что он его
тщательно переписал. В дневнике отражены его переживания в связи с крайне
утончившейся душевной жизнью, сквозь которую стал просвечивать сверхчувственный
мир. Он, например, записывает свои опыты, с помощью которых пытается убедиться
в присутствии духовного водительства. Ясно, что подобные вещи не годятся для
широкого опубликования; это вообще не объект для литературоведения, а памятник
духовной истории.
Не только жизнь чувств, но и жизнь
мышления в Чаадаеве приближалась к сверхчувственному опыту. В ноябре 1823 г. он
пишет брату из Лондона: "Мое нервическое расположение - говорю это краснея -
всякую мысль превращает в ощущение до такой степени, что вместо слов у меня
каждый раз вырывается смех, либо слезы, либо жест". Но эти страдания приводят
Чаадаева не к крушению, а к открытию: "... мы пользуемся мировым разумом в
нашем познании". Что же касается жизни чувств, то она не тонет в субъективном,
а возвышается в Чаадаеве до всечеловеческого. Когда в Петербурге произошло
сильное наводнение, он горько оплакивал его жертвы, хотя не потерял в нем
никого из близких родственников.
Пережив очищение астрального тела,
Чаадаев приходит к гармонии чувства и мысли. С той поры он поселяется в Москве
и никуда оттуда больше не выезжает. Вероятно, он прибег к интенсивной
медитативной практике, требовавшей большой упорядоченности и стабильности
жизненного процесса. Рассказывают, что он не соглашался ни на одну ночь выехать
к знакомым в Подмосковье, куда его настойчиво приглашали; из гостей он всегда
уходил в половине одиннадцатого и т.п. В то же время, Чаадаев ежедневно был на
людях: выезжал сам и раз в неделю
принимал у себя. Подобно русским подвижникам, он, найдя в себе Бога, поставил
себя на служение людям. Его намерения были столь практичны, что он даже
попытался снова возобновить службу - по ведомству народного просвещения.
Соответствующее прошение, поданное им через Бенкендорфа Николаю I, может
кому-то показаться чрезмерно верноподданническим, но нужно понять, что его
написал человек, поднявшийся выше мелочного, суетного честолюбия, прозревавший
большие и глубоко скрытые отношения жизни.
Концентрация лишь на существенном
отличает весь стиль поведения Чаадаева в московский период его жизни Так,
например, далеко не во всем соглашаясь со славянофилами, он, тем не менее,
перевел на французский язык одну статью Хомякова и выхлопотал ее опубликование
в Европе. Другому славянофилу, С.П.Шевыреву, в ответ на приглашение посещать
его лекции, он пишет: "Вы увидите меня на ваших лекциях примерным и покорным
слушателем. Будьте уверены, что если во всех мнениях ваших сочувствовать не
могу, то в том, чтоб через изучение нашего прекрасного прошлого сотворить
любезному отечеству нашему благо, совершенно с вами сочувствую".
Ежедневное присутствие Чаадаева в
светском обществе совсем не носило следов той поверхностности, что была присуща
его современникам. Поэт Вяземский говорит, что он был "преподавателем с
подвижной кафедры, которую переносил из салона в салон". И следует увидеть в
этом способе устного общения, которому Чаадаев отдал предпочтение перед
печатным словом, весьма существенный знак. Так общались люди в далеком прошлом
и снова вернутся к этому в будущем, когда не из книг, а непосредственно из
человеческого духа, в живом общении будут извлекаться истины и твориться
культура. Чаадаев ставил опыты именно такого рода. При этом его моральная
техника была безукоризненной. В своем поведении он снимал абсолютно все, что
могло бы как-либо помешать восприятию истины. Тот же Вяземский замечает: "Он
был умнее того, чем прикидывался". Но нет, он не прикидывался, а устранял себя
настолько, чтобы стать вровень с собеседником, не заслонить собой истину. Много
говорили о его совершенном comme il faut. Однако и этому
причина была иная, чем у многих других. "Это изящество во всем, -
свидетельствует М.Н.Лонгинов, - было необходимо для той роли, оригинальной и
трудной, которую суждено было ему играть в обществе, обращающем так много
внимания на внешность".
Внешняя аристократичность
сочеталась в Чаадаеве с аристократичностью духовной, печать которой носило его
лицо. Ф.И.Тютчеву оно представлялось некоей "медалью" в человечестве, старательно
и искусно отделанной Творцом и не похожей на "ходячую монету" человечества,
ходячий тип. Хомяков находил в его лице ум и печаль, знак "перегоревших
страстей". Улыбка его серо-голубых глаз была, одновременно, и доброй, и
иронической. И вообще он был мастер на шутки. Например, он не раз говаривал,
что в Москве всех иностранцев водят смотреть национальные
достопримечательности: царь-пушку и царь-колокол, пушку, из которой нельзя
стрелять, и колокол, который свалился и разбился прежде, чем зазвонил.
Чеховское: "В человеке все должно
быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли", видимо, находило в Чаадаеве
совершенное воплощение. Но в дополнение к этому современники видели в нем еще
что-то священническое. Баратынский, навестивший его на страстной неделе,
говорил потом, что общение с ним - это лучший способ употребления времени в эти
святые дни. И надо сказать, такое признание Баратынского было свободным, никак
не вынужденным каким-либо внешним влиянием авторитета Чаадаева, ибо, например,
Денису Давыдову ничто не помешало шутить на этот счет в адрес Чаадаева:
Все кричат ему привет
С оханьем и писком,
А он важно им в ответ:
"Dominus vobiscum".
Судя по характеристикам
современников, Чаадаев был человеком, в котором произошло полное воплощение
"я". В начале XIX в., да еще на русской почве это был редкий феномен. И как
первое выступление индивидуально воплощенной души ощущающей производило
магическое впечатление, так и явление индивидуального "я" в ту пору носило в
себе нечто метафизическое. Известен случай, когда один англичанин, приехавший в
Веймар, чтобы встретиться с Гете, при виде его упал в обморок. Неизгладимое
впечатление оставлял в людях одним только своим видом и Чаадаев. Особенно
интересны свидетельства двух женщин по этому поводу. Одна из них, имя которой
осталось неизвестным, писала Чаадаеву: "Провидение вручило вам бесценный клад:
этот клад - вы сами. Ваш долг... внушать людям уважение к той, если можно так
выразиться, вполне интеллектуальной добродетели ...". В письме другой, имя
которой Е.Г.Левашова, мы читаем: "... вы призваны протягивать руку тем, кто
жаждет подняться, и приучить их к истине, не вызывая в них того бурного
потрясения, которое не всякий может вынести. Я твердо убеждена, что именно
таково ваше призвание на земле; иначе зачем ваша наружность производит такое
необыкновенное впечатление даже на детей?" Что ж, подобные наблюдения делают
честь не только высказавшим их женщинам, но и всему обществу, в котором
вращался Чаадаев, и о котором теперь принято говорить только плохое. Оно
поняло, что ему был явлен живой пример для подражания, а значит, Чаадаев
трудился не зря.
Собирая воедино многочисленные
черты личности Чаадаева, сохраненные для нас его современниками, получаешь
впечатление, что он был одним из тех людей, которых мы называем посвященными,
которые являются на помощь народам, человечеству в трудные или ключевые моменты
истории и хотя, как кажется внешне, ведут среди людей обычную жизнь, но
действуют, исходя из иного, более высокого плана. Таков, например, вагнеровский
Лоэнгрин - первый посвященный эпохи городской цивилизации. Как посвященный
действовал Гете, обладая духом высшего порядка и одновременно всецело коренясь
в своей среде и эпохе. Так и Чаадаев вполне вписывался в среду русской жизни
начала XIX века и в то же время вносил в нее нечто высшее: импульсы посвящения
человеческого "я". Как у средневековых духовных рыцарей, у
него даже была идеальная возлюбленная, Н.С. Норова, рядом с которой он, по его
завещанию, был похоронен в Донском монастыре.* Умер он без предварительной
болезни в страстную пятницу, заранее предчувствуя свою кончину. Во время беседы
с хозяином дома, где он снимал флигель, его душа мгновенно оставила тело.
* Безбрачие Чаадаева дало повод биографам искать физические тому
причины. Не стоит этому удивляться. Могли ли они понять, что пережившее
катарсис астральное тело уже не нуждается в физическом браке? Кстати сказать,
всяческие домыслы были бы построены и в отношении безбрачия Гоголя, не
удосужься он сам объяснить причины этого понятными для современных
исследователей доводами.
Такова вкратце жизнь Чаадаева,
увиденная извне, но у нас имеется возможность судить и о ее внутренней стороне,
главным образом, благодаря написанным им "Философическим письмам". Их
содержание значительно глубже, чем оно открывается при экзотерическом
прочтении; в них описан оккультный путь автора, а не только открытия его ума.
Чаадаев, видимо, хорошо понимал,
что идет нижним, внутренним путем, и что имеется еще верхний, аполлонический
путь (при этом не важно, в какой форме и в каких терминах выражалось это
понимание). Он безошибочно распознал, что Пушкин стоит на этом, втором пути. В
Чаадаеве начал зреть вопрос: как соединить оба пути? Один способ был - через
духовное сплетение судеб, подобно древним святым Борису и Глебу. Влияние
Чаадаева на Пушкина вообще было глубоким и началось еще в лицейские годы. Он
способствовал развитию индивидуальности Пушкина "более чем всевозможные
профессора своими лекциями" (М.Н.Лонгинов). В 1829 г. он пишет ему: "Самое
пламенное мое желание, мой друг, - видеть вас посвященным в тайну времени
(выделено нами. - Авт.)... Если у вас не хватает терпения ознакомиться с тем,
что совершается в мире, уйдите в себя и из собственных недр вынесите тот свет,
который неизбежно есть во всякой душе, подобной вашей... Киньте крик к небу -
оно вам ответит ...". И еще: "Я говорю вам, как Магомет арабам, - о, если бы вы
знали!" Тому, кто не полный дилетант в оккультизме, нет нужды разъяснять эти
строки. "О, если бы вы знали!", - это означает, что сам-то Чаадаев знал, куда
зовет поэта: прийти к сверхчувственной реальности, обратив "к небу" свой
внешний опыт как вопрос. Ответ придет и даст импульс для некоего творческого
синтеза, объединяющего верхний и нижний пути посвящения, или (как знать?)
соединяющего Пушкина с Лермонтовым в некое поэтическое целое в одной душе.
Через два года Чаадаев снова пишет
Пушкину: "Я по-прежнему стою на том, что мы с вами должны были идти вместе и
что из этого вышло бы что-нибудь полезное и для нас, и для ближнего". Но здесь
уже стоит "должны были", значит, к этому времени (Пушкину было 32 года) нужный
момент уже прошел, и нам не суждено узнать, какое чудо могло бы совершиться в
нашей культуре.** Чаадаев же обратился к изложению своего опыта, пути, ибо его
"Письма" являются неким (пусть самым предварительным), смеем утверждать, наброском на тему "Как
достигнуть познания высших миров?" Р.Штайнера.
** Хотя призывы Чаадаева не остались совсем без последствий. Своим
серьезным обращением к истории Пушкин, несомненно, обязан им. И сколь
проницательны некоторые его догадки!
До сих пор гадают, кто была та
особа, к которой адресованы "Философические письма". А ею была сама душа
русского человека (а значит и душа Чаадаева), женственная по своей природе. Вы,
обращается он к ней, обладаете организацией для восприятия всего истинного и
доброго в мире, но вам не достает "навыков познания", которые "вносят
правильность в душевную жизнь". Без них даже предрасположенность к религиозной
жизни - иллюзия. Ибо не с "беспокойным пылом", "мечтательностью", "прихотью
воображения" отдаются религии. Нужно упразднить "ветхую природу" (то, что мы в
свое время описывали как "пламя вожделений"), тогда родится новый человек,
созданный Христом. Как это сделать? Прежде всего, рекомендует Чаадаев,
организуйте "новую сферу бытия", которая всецело позволила бы сосредоточиться
на "внутренней жизни". Внешнюю жизнь необходимо сделать однообразной и
методичной, свой быт обставить художественно, со вкусом, ибо внешнее также
организует внутреннее. В этом некоем душевном убежище следует заняться чтением
Платона, отцов церкви. В результате всего этого удастся избежать поглощенности
окружающим и обрести "верное чувство и сосредоточенную мысль". При этом речь
идет не о монашеской замкнутости, а о "трезвом и осмысленном существовании",
чуждом аскетической морали.
Беда русской души состоит в том,
что нет в ней устойчивой последовательности идей, что идея "является к нам Бог
весть откуда". Это следует преодолеть - если мы желаем что-то из себя сделать,
- но не путем замыкания в себе, которое нужных плодов не принесет, поскольку в
нем таится искушение: "Сосредоточенный сам в себе ум питается создаваемыми им
лживыми образами и подобно св. Антонию населяет пустыню призраками,
порождениями собственного воображения".
Для упорядочивания сферы
деятельности полезно, соблюдая указанные выше правила, сосредоточиться на
Евангелиях. Это поможет "найти такое душевное настроение, мягкое и простое",
которое без усилий позволит "сочетать со всеми действиями разума, со всеми
возбуждениями сердца идею истины и добра". Это указание Чаадаева созвучно с
тем, что говорит Одоевский о познании, которое есть постоянное "интегрирование
духа", возвышение его, увеличивание его самобытной деятельности, которая
возбуждается не фактом, не силлогизмом, а "путем эстетическим", на котором
"даже против воли" предметы соединяются с познанием, ибо эстетическая
деятельность проникает в душу непосредственно, во "вдохновении" ("Русские
ночи", ночь 9-я).
Далее Чаадаев говорит о
возможности вызвать некое религиозное чувство, будто мы лишились личной силы
(скажем, своего эго) и высшей силой (Христа, разумеется) влечемся к добру. И
тогда дух наш раскроется, "и самые высокие истины сами собой потекут в наше
сердце"* (письмо 2-е). Задача человека - произвести необходимое приготовление,
преобразить свою душу, и метаморфоза совершится сама собой, ибо "Истина едина:
Царство Божие, небо на земле, все
евангельские обетования - все это не что иное, как прозрение и осуществление
соединения всех мыслей человечества в единой мысли; и эта единая мысль есть
мысль Самого Бога, иначе говоря, - осуществленный нравственный закон." Для
истории в этом состоит великий апокалиптический синтез (письмо 8-е).
* Видимо, к подобному праксису и хотел привлечь Чаадаев Пушкина
Итак, в "Письмах" Чаадаева перед
нами описание трех ступеней на пути души к сверхчувственному познанию: 1)
эстетическая организация окружения, упорядочение внешней и внутренней жизни; 2)
благоговейное сосредоточение на внутреннем, на "поэзии души" без отрыва от
внешней жизни; 3) медитативное состояние (как волевое усилие) внутреннего
"созерцающего суждениям, "вдохновенное размышление". Чаадаев понимает, что главное
препятствие на этом пути - душа ощущающая, которая без эгоизма просто не может
существовать. "Что бы мы ни делали, - говорит он, - ... руководит нами всегда
одна только эта выгода...", нам никогда не удастся "устранить себя вполне",
даже служа общему благу (косвенный эгоизм; см. "Философию свободы", гл. IX).
Поэтому выход для нас в правиле: "поступать с другими так, как мы желаем, чтобы
поступали с нами" (письмо 2-е). Это предписание самого Высшего Разума.
Другой путь возвышения души
ощущающей - через реализацию в себе души рассудочной, сначала только в
нравственном элементе, путем понимания того, что в основе всякого нравственного
действия лежит "чувство Долга" (именно чувство долга есть качество души
рассудочной, о чем мы скажем подробнее чуть ниже), а значит, и "подчинения".
Подчинение этого рода, будучи доведенным "до совершенного лишения себя своей
свободы... было бы высшей ступенью человеческого совершенства", а значит и
свободы. И это не парадокс, а действительно высшая ступень свободы, достигаемая
в душе рассудочной. Но у этой души есть и другая сторона, обращенная вверх, к
душе сознательной, где принцип свободы иной.
У человека имеется два разума: "в
верховной, или объективной действительности разум человеческий на самом деле
(есть) лишь постоянное воспроизведение мысли Бога"; во времени действует разум
субъективный, который, благодаря свободной воле, человек "сам себе создал".
Объективный разум явлен нам во Христе, субъективный - в философии и науке. Так
открывается путь от души рассудочной к сознательной и далее в сферу чистых
понятий, в сферу Самодуха.
Объективный, или мировой разум -
это океан идей. В нем пребывает все. Из него получил "первотолчок" и наш
субъективный разум. Благодаря этому всеединству "всякий закон природы
повторяется в моем "я". Все явления
физического мира являются в мире невещественном" (письмо 8-е). Задача человека
в природопознании - заставить мысль с помощью анализа стать действенной. При
этом сама природа "внушает уму путь", "всякое природное явление есть
силлогизм".* Поэтому и на умственном пути задача сводится к подчинению.
Деятельная субъективная мысль подчиняется в анализе и восходит к некоему
синтезу, свойству древних наук, который следует понимать как интуицию. Итак,
возросшая умственная мощь должна совершить "своего рода логическое
самоотречение, однородное с самоотречением нравственными. В обычной жизни
человек отчуждается от высшего мира внутренне - в нравственной самодеятельности
- и внешне - в логической самодеятельности. Но он снова может подняться к их
абсолютному бытию, отрешаясь от "пагубного" я, т.е. от эго. Тогда человек вновь
найдет "и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его
изначальной связи с остальным миром". Но обрести эту "исконную жизнь" дано лишь
"высшему напряжению наших дарований"; при этом не требуется выходить из мира,
который нас окружает.
* Мы видим, что эта идея Чаадаева примыкает к гетевскому
природопознанию с помощью созерцающей силы суждения: "Синева неба - уже
теория".
Так открывается возможность
объединить внешний и внутренний путь посвящения, поскольку "жизнь духовного
существа в целом обнимает собою два мира". И существует закон, который объемлет
оба мира. Он ведом разуму, для которого существует единый мир. Этот закон - есть
свет, "который просвещает всякого человека, приходящего в мир". Это Логос,
Яесмь; "мир Его не познал", но только в Нем осуществим высший синтез, и потому
Его пришествие предвидели и ждали Зороастр, Пифагор, Сократ и Платон. Лишь в
добровольном ослеплении возможно ныне не познать этот Свет (письмо 2-е, 3-е).
Далее Чаадаев намечает путь для
воспитания высшего члена души - души сознательной. Доступ к ней был найден уже
на предыдущей ступени путем расширения эгоизма до общечеловеческих интересов;
теперь надлежит обратиться к ее мыслительной стороне путем изучения истории.
На этом мы остановим рассмотрение
взглядов Чаадаева, поскольку в нашу задачу входит лишь уяснение их общего
характера. Благодаря этому мы сможем, если пожелаем, понять и все то, что
кому-то кажется в них противоречивым и односторонним. Для нас важно другое:
увидеть духовнонаучный характер мировоззрения Чаадаева. Мы обратимся к
"Философии свободы", где в 9-ой главе Р.Штайнер в наиболее сжатом виде излагает
путь к свободе, пролегающий через тройственную душу. Все содержание главы можно
выразить в виде краткой схемы, которую мы приводим ниже. Абсолютно все ее
элементы взяты из этой главы. Если сравнить ее с тем, что уже в первой трети XIX
в. дал как очерк ступеней, ведущих к сверхчувственному познанию, Чаадаев, то
можно по достоинству оценить величие этого светлого духа.*
* Чаадаев предчувствовал, что должен явиться некто, великий
посвященный (как сказали бы мы), дабы "поведать нам истину, потребную времени".
Пытаясь как-то нащупать суть того грядущего провозвестия, Чаадаев отмечает (не
будем придираться к терминам) две его стороны: социально-религиозную и саму
обновленную религиозность: "в роде политической религии, что Сен-Симон теперь
проповедует в Париже; либо католицизм нового рода, каким некоторые дерзновенные
священники хотят заменить католицизм, созданный и освященный веками. Отчего и
не так? Какое дело, тем ли, иным ли способом будет дан первый толчок тому
движению, которое долженствует завершить судьбы человечества! Многое
предшествовавшее тому великому моменту, в который Божественный посланник
некогда возвестил миру благую весть, предназначено приготовить мир; многому
подобному суждено, без сомнения, совершиться и в наши дни, прежде чем и нам
будет принесено новое благовестие с небес. Будем ждать.". (Письмо к Пушкину от
18 сентября 1831 г.)
Раскрывая внутреннюю подоплеку
человеческих действий, Р.Штайнер описывает мотивы и побуждения к волению как
притекающие с двух сторон: от чувства
("характерологическая основа") и от мысли (понятийная основа). Снизу вверх
побуждения и мотивы восходят от души ощущающей до Самодуха (сфера подлинной
свободы). Со стороны понятийной основы мотивы достигают поступка, проходя
сквозь характерологическую основу и совершенствуя ее; со стороны характера
побуждения ведут к поступку непосредственно. Таким образом, с одной стороны
(слева, см. схему), идет воспитание самих чувств, с другой (справа) - они
воспитываются благодаря пониманию. В целом же все три элемента: мысль, чувство и
воля - приходят во взаимодействие в каждой из трех душ: ощущающей, рассудочной,
сознательной.
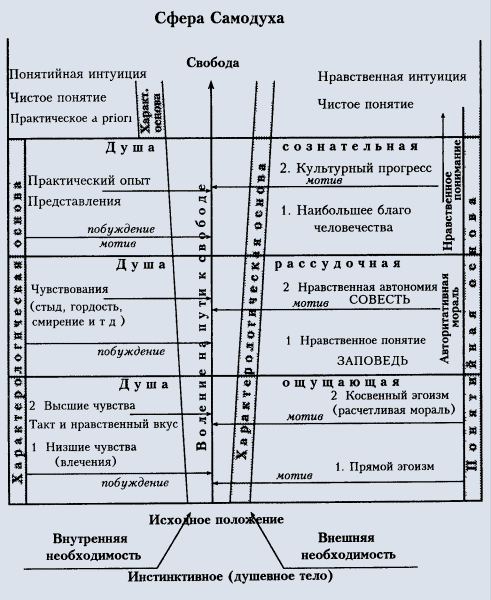
В заключение нашего разговора о
Чаадаеве коснемся вопроса о его "западничестве". Все, кому по душе его критика
России, и понятия не имеют о ее истоках. Чаадаев ясно осознал, что Россия
вступила на европейский путь развития, где надо всем превалирует мысль, и это
посвятительный закон христианской цивилизации. Поэтому о народе, не причастном
к школе мышления, правомерно спросить: христианский ли он? С другой стороны,
Россия, как на горящих угольях, "сидела" на неорганизованной жизни чувств, под
которой таится "пламя вожделений". И Чаадаев понял всю колоссальную опасность,
которая надвигалась на Россию в связи с тем, что она была неспособна, идя путем
фаустовской души, противостоять искушениям Мефистофеля.* Сам он на этот путь
ступил, на путь сугубо западный, которым России в XIX в. было идти
преждевременно. Лишь благодаря толчку, данному Петром, она была к нему
подведена в некоторой части своей интеллигенции. Что из этого может получиться,
стало видно на примере Гоголя. И Чаадаев правильно определил, что в падении
Гоголя следует видеть "последствия печальной ошибки славянофилов", а не
западников, как утверждает К.Аксаков. При этом имелось в виду не мировоззрение
славянофилов, а их апелляция к душевному. Если бы Гоголь прибег к воспитанию
ума, имеющему место на Западе, то он бы устоял. И здесь нам необходимо понять,
что все русские западники - это люди, пошедшие путем развития в себе
тройственной души. Их несчастье состояло в том, что они при этом оставались
типично русскими людьми. Пушкин своей "Пиковой дамой" показал им, что их
ожидает, но они этого не поняли. Став жертвой МефистофеляАримана в душе
рассудочной, они обратились к материализму, марксизму; Люцифера в душе
ощущающей - к нигилизму, анархизму или просто к душевному недугу. Чаадаев,
пройдя их путем, был едва ли не единственным, кто устоял до конца. Всем
западникам надо бы следовать по его стопам, но, как говорится, "свои его не
приняли". "Голосом из гроба" в неуместной иронии назвали они его призыв и тем
вколотили гвоздь в собственный гроб.
* Можно еще отметить, что взгляды Чаадаева на Россию претерпели в
течение его жизни большую эволюцию. В конце жизни он понял, что у России свой
путь. В письме от 15 ноября 1846 г. (адресат неизвестен) он писал, что новые
изыскания показывают: "мы слишком мало походим на остальной мир, чтобы с
успехом продвигаться по одной с ним дороге. Потому, если мы действительно
сбились со своего естественного пути, нам, прежде всего, предстоит его
найти...". Но и еще ранее, в 1833 г., когда он решил возобновить службу, он
писал Николаю I: "Россия развилась совершенно иначе (чем Европа), у нее есть
специальное назначение, которое она должна выполнить в мире...". В то же время,
Чаадаева мучил вопрос: что же все-таки делать нам в условиях, когда все народы
сближаются, стушевываются все местные и географические особенности, а "мы
погружаемся в себя и обращаемся к колокольне своего прихода" (письмо к А.И.Тургеневу,
1834 г.); что делать стране, в которой "в один прекрасный день одна часть
народа очутилась в рабстве у другой...". (После 1917 г. этот вопрос встает
вновь. - Авт.) и т.д.
* * *
Итак, в первой половине XIX в. в
русской культуре возникают два облика, душевно-духовная конфигурация которых
являет нам черты столь уникальные, что и поныне затруднительно кого-либо еще из
русских поставить с ними в один ряд. И хотя ценны плоды их творчества, "светлых
мыслей красота", исключительное значение для развития русской культуры имеет
осуществленный ими в опыте жизни синтез души и духа. Это производит совершенно
особое впечатление, когда в феномене человека явлено: "Alles was ist,
ist an sich Eins" (Все, что
существует, существует едино в себе. Шеллинг). Взлелеяв в себе целостную
личность, они прошли путем внешней культуры, потому не стали учителями
оккультизма. В эпоху души сознательной тайны Мистерий выходят на широкий план
жизни. Однако, если Чаадаев говорит: "Когда эта совесть, это сознание
(бодрственной жизни. - Авт.) потеряно, то нет Воскресения", то это - эзотерическое
Христианство. В подобных словах звучит новый Дух Христианства, которому было
суждено широко и мощно излиться в нашу цивилизацию благодаря делу жизни
Р.Штайнера.
В.Ф. Одоевский и П.Я. Чаадаев шли
от противоположных сторон к одному центру, где вспыхивает индивидуальное
я-сознание и объемлет собой внутренний и внешний мир человека. Благодаря им
русской культуре из высших миров была протянута рука помощи, дан воплощенный
праобраз той цели, к которой надлежит идти русскому самосознанию. В этом
прообразе нет ничего искусственного или чуждого именно русской жизни. Поэтому к
индивидуальностям Одоевского и Чаадаева возводимы фактически все основные
проявления последующего духовного развития в России.
В Одоевском мы видим фактически
то, как "светом познания", приходящим из Средней Европы, пробуждается к
сознательному бытию единая душа славянского Востока. Поэтому следует понять,
что именно от Одоевского берет свое начало духовное течение, получившее
название славянофильства. Истинное славянофильство никогда не было идеологией,
а естественной реакцией пра-древнейшего русского начала на вторжение с запада
импульса фаустовской, тройственной души. Поэтому в полном смысле слова
"славянофилами" и поныне остаются русские крестьяне с их смутным переживанием
души рассудочной в элементе инстинктивной мудрости. В апогее единая душа в нашу
эпоху восходит к мудрости Гетеанизма. Поэтому не случайна была тяга к нему у
Одоевского. Славянофилам лишь отчасти удалось достичь той ясности духа и
целостности души, к которым пришел он. Но у этого пути большое будущее, когда
Гетеанизм широко войдет в русскую жизнь.
"Западничество" Чаадаева - это
также симптом. Он выражает собой другое направление русской жизни, которое
проявляется там, где она отходит от принципа единой души и пытается продолжать
то, начало чему было положено Петром I. По своему характеру западничество -
куда более сложное и противоречивое явление, чем славянофильство. Одной из
главных и характерных черт его представителей является недостаток внутреннего
равновесия. Отсюда все их крайности, начиная от левого радикализма и заканчивая лозунгом "православие,
самодержавие, народность", который совершенно ложно приписывают славянофилам,
ибо выдумавшие его были псевдославянофилами. В его возникновении следует видеть
не что иное, как инспирированную темным двойником государственности попытку
надеть узду группового сознания на чувство, волю и мысль тройственной души и
тем искусственно заградить путь к ее развитию, дать лишь инстинктивный выход
тому, что по своей сути является антиинстинктивным. Поэтому одной природы такие
"цветы зла", как поздний Бакунин и "славянофил" К. Леонтьев,* ибо оба они суть
порождение аномального развития в них тройственной души в ее хождениях "по
мукам" русской жизни. Многие особенно важные вещи в нашу эпоху бывает трудно
распознать потому, что они поставлены с ног на голову. Однако суть их оттого не
меняется.
* Это следует сказать, несмотря на отдельные необычайно яркие,
даже гениальные проявления творческого духа Леонтьева.
В.Ф.Одоевский является более
чистым выразителем славянофильства, чем А. С. Хомяков и К. С. Аксаков. В его
лице древнее славянское начало с его мистическим реализмом, свойственным
жизневоззрению всего северного потока выходцев из Атлантиды, руководствуясь
верным чувством, открыло врата русского самосознания навстречу высоким
достижениям среднеевропейского идеализма и натурфилософии и отвергло кантовский
дуализм и английскую эмпирию- Совершенно прав Э.Радлов, говоря, что "русская
философия никогда не чувствовала склонности к субъективизму, что она упорно
стремится к познанию действительности, а не явлений только, и притом
действительности не только явлений, но и безусловной, и абсолюта".74
Потому русской душе полезна здоровая атмосфера немецкого идеализма и возросшего
на его основе гетевского способа природопознания.** В совокупности они дают ей
ту универсальную монистическую основу, которая позволяет человеку твердо стоять
на земле и искать столь же твердой опоры в духе. Мировоззрение, к которому
приходит среднеевропейский дух, на славянском востоке становится
жизневоззрением. Можно, несомненно, исказить и то, и другое, но почему гримасы
зла должны отторгать нас от поиска здоровых основ жизни? Наши духовные предки дали
нам в этом хороший пример.
** Мы понимаем, сколь трудные для современного ума вещи мы
высказываем, когда даже в немецкоязычных странах немецкая философия и гетевское
природоведение подвергаются остракизму. Но было бы ошибкой думать, что это лишь
знаки нашего времени. Не зная автора, было бы невозможно угадать, что следующему
высказыванию Одоевского более 150 лет. "В материальном опьянении - говорит он,
- Запад прядает на кладбище мыслей своих великих мыслителей и топчет в грязь
тех из них, которые сильным и святым словом хотели бы заклясть его безумие".
Одоевский всецело следует
Гетевской методологии, когда утверждает, что лишь благодаря присутствию
"прототипа" предмета в нашей душе возможно познание последнего. Но далее он
делает из этого выводы для жизни и говорит, что утилитарный подход к науке
растлит человеческий дух. Отсюда, как социальная проблема встает необходимость
соединить веру со знанием, поэзию с наукой и т.д. Их синтез способен дать
русской душе новую форму - основу ее будущей социальности. Почти программными являются
следующие слова Одоевского: "Но поелику человек состоит из духа и души, то для
достижения высшей степени потребно возвышение
обоих: первого - познаниями, второго - любовью. Эстетическое образование есть
нечто отдельное; это символическое праобразование той отдаленно-будущей жизни,
которая будет соединением знания с любовью".75
Подобными же по духу были и
искания других ранних славянофилов, органически выраставшие из их опыта
самопознания, более экзистенциальные, чем умозрительные по своему характеру. Их
мысли внешне почти непостижимым образом сходились к единому центру, выражение
же носили столь разнообразное, а часто и противоречивое, что даже американский
славист П.Кристоф заметил: "Славянофильство - это не какое-то единое течение, а
лишь ряд отдельных славянофилов".76 Однако все же имеются
достаточные основания говорить о славянофильстве как о некоем направлении в
истории русских жизневоззрений. Оно спонтанно рождалось в душах его
представителей и внешне, идеологически никак не было сведено ими воедино.
Идеология пришла позже, когда уже не стало истинных славянофилов. Тогда же
возникли размежевания, борьба, выставление лозунгов. До сих пор считают
прописной истиной неприятие славянофилами Запада, тогда как имеется множество
высказываний, сделанных ими самими, совершенно противоположного рода. Например,
И.Киреевский по этому поводу писал: "... все споры о превосходстве Запада или
России... принадлежат к числу самых бесполезных, самых пустых вопросов... Все
прекрасное, благородное, христианское, по необходимости нам свое, хотя бы оно
было европейское, хотя бы африканское".77 И это не были просто
слова. Славянофилы (сначала примыкая к кружку "Любомудров") многое почерпнули в
немецкой философии. Молодой Ю.Самарин даже считал, что "участь церкви тесно,
неразрывно связана с участью (философии) Гегеля".78 Немецким
идеализмом, шеллингианством в особенности, проникнуты юношеские мечтания
И.Киреевского. "Мы возвратим, - писал он, - права истинной религии, изящной,
согласной с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм
заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотою слога. Вот мои
планы на будущее". Лет через 20, говорит он далее, можно будет дать отчет в
делах, призывая в свидетели "просвещение России".
Немецкое влияние находило
благоприятную почву в славянофилах потому, что отвечало их собственному
жизненному поиску. Но наравне с этим у них жила инстинктивная тяга к целостному
строю души, желание сохранить его во что бы то ни стало. Совершенно
недвусмысленно выразил это в стихотворной форме К.Аксаков:
Лишь самобытно может
человек,
Все общее, великое постигнуть;
Но если ж невозможно, - право, лучше
Быть ограниченным, но цельным только.
("Монолог", 1845).
Таково основополагающее настроение
единой души. Она не отвергает фаустовский путь, но подходит к нему не изнутри,
из сферы смятенных чувств, а извне - от жизненной позиции и познания. Быть
вовлеченной в дионисийскую стихию чувств для единой души означает потерять
себя. Поэтому:
Оставь же свой отдельный мир
страданья,
Где ты живешь - вдали людей любя!
Участия не нужны подаянья,
Из
целого не исключай себя.
(К.Аксаков. "Гуманисту", 1849).
В то же время, и нерассудочное
познание дает целостность душе. "Раздробив целостность духа на части, - пишет
И.Киреевский, - и предоставив определенному логическому мышлению высшее
сознание истины, мы отрываемся в глубине самосознания от всякой связи с
действительностью".79 Кроме того, "рационализм есть логическое
знание, отделенное от нравственного начала".80
Истина, по мнению славянофилов (в
чем они целиком смыкаются с Одоевским), дается человеческому "духу в его живой
целостности", в совокупном действии ума, чувства и воли. Восприятия внешнего и
внутреннего мира - это неразложимый и непосредственный факт сознания
(Ю.Самарин). Но в этой данности единого опыта сознанию заключается и кредо
духовнонаучно разрабатываемого Гетеанизма. И интересно, что понимание опыта в
нем как чувственно-сверхчувственной реальности также было свойственно
славянофилам. "Для цельности разума, - пишет И.Киреевский, - необходимо высшее
духовное зрение, которое приобретается не кажущейся ученостью, но внутренней
цельностью бытия." (Статья "О необходимости и возможности новых начал для
философии"). А у Хомякова мы читаем в статье "По поводу отрывков, найденных в
бумагах И.В.Киреевского": вера "не похищает области рассудка, но своей
самостоятельностью охраняет область рассудка, и в то же время обогащает его
анализ бесконечным богатством данных, приобретенных ясновидением".(!)
Было бы грубой ошибкой принимать
такие слова, как "высшее зрение", "ясновидение" за метафору. Им придается в
воззрениях славянофилов прямой смысл. Один из второстепенных славянофильских
авторов, В.Д.Кудрявцев-Платонов, откровенно писал, что человек стоит на грани
двух миров: чувственного и сверхчувственного; к первому он обращен внешними
восприятиями, ко второму - внутренним чувством, которому в непосредственном
созерцании, без рассудочных операций, дается идеальное воззрение. Задача
рассудка - возвести это воззрение к свету понятия.,81
Итак, славянофилам была ведома
сверхчувственная реальность человеческого познания. Без нее, как полагали они,
цельность человеческого знания недостижима, но, чтобы быть причастным к нему,
необходима целостность жизни; необходимы: философия как согласованная с теорией
практическая жизнь и сверхчувственное единение с природой, но не субъективное
(лермонтовское), а, скажем мы, аполлоническое. Последнее опять-таки явствует из
слов самих славянофилов. Хомяков в стихотворении "Желание" (1827) восклицает:
Хотел бы я разлиться в мире, Хотел бы с Солнцем в небе течь.*
* В одной из своих лекций Р.Штайнер говорит, что при
соприкосновении с имагинативным миром человек имеет переживание, будто его
сознание отождествляется с Солнцем и влечется им по небосводу. По меньшей мере
в художественной интуиции это переживание явно встает у Хомякова.
Хомякову вторит Аксаков:
Безбрежное небо,
Когда я к тебе,
От тела свободный
Стремглав полечу,
Я неба равнины
Измерю тогда,
И все обниму я,
Везде разольюсь.
("Элегия", 1832).
Таков "верхний"
сверхчувственный опыт. Его дополняет (образуя единство) внутренний опыт. Он
открывается дионисийской душе. Чтобы избежать ее терзаний, славянофилы
подступают к ней (идя извне вовнутрь) единственно правильным способом: под
знаком "не я, но Христос во мне". Об этом принципе они говорили как о вере.
Вера - это само содержание цельного знания, лишь в ней возможен цельный
человек, потому "человек - это вера" (И.Киреевский). Вера, говорит Хомяков, -
это "разумная зрячесть", ей доступно постижение целости сущего мира
вещественного и духовного. Источник же бытия духовного мира и его постижения -
это любовь.* (Статья "По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В.
Киреевского"). Вере открывается действительность, которая принадлежит
сущностной воле, проявляющейся в мире явлений. Итак, согласно воззрениям
славянофилов, восходя к сверхчувственному опыту (скажем, в имагинации), мы
приходим к знанию, а точнее: имагинативно созерцаем мир мыслесуществ, которые
все есть воля, как учит Антропософия, Обращаясь к живущей внутри нашей души
вере, мы приходим к сущностной воле, которая суть то же, что мировое мышление.
Так замыкается великий круг верхнего и нижнего пути посвящения под знаком
Любви, Христа, приводя к воплощению в индивидуальное бытие самосознающее "я".**
* Интересно опять сравнить идеи Хомякова с тем, что говорит о вере
и любви Р.Штайнер: "Веру имеет тот, кто так принимает в себя Христа, что
Христос живет в нем, и его "я" живет не просто как пустой сосуд, но переполнено
содержанием. И это переполняющее содержание есть не что иное, как любовь". (25.XI.1909,
ИПН 114). "... Кто имеет веру, должен быть в состоянии нечто делать через эту
веру". В Евангелиях везде, "где вы встречаете слово "вера", речь идет о
деятельном представлении ..." (10.04.1917, ИПН 175). "... Вера - это выражение
морального в физическом ..." (17.09.1912, ИПН 139).
** "Как то, что ведет нас в самих себя, - говорит Р.Штайнер, - так
и то, что ведет нас в дали мира, мы можем обозначить как круг, в котором
сходятся и внешнее, и внутреннее. То, что является волевой природой, во что мы
погружаемся как в область, в которой мы сгораем (дионисийский путь. - Авт.), и
то, что является пространственными далями (аполлонический путь. - Авт.), в
которых мы распыляемся в ничто, - и то, и другое сходится. И наши мысли о мире
соединяются с волей, которая встает нам навстречу из мира, когда мы нисходим в
себя. Волей исполненные мысли, водящие мысли! Благодаря этому процессу мы не
стоим более перед абстрактными мыслями, но перед мировыми мыслями, творящими
мыслями, которые могут водить, ...исполненные волей мысли есть духовные
существа. Так замыкается круг. (Лекция от 27.08.1911, ИПН 129).
Опыт славянофилов не нашел
систематического выражения в литературе и носил фрагментарный характер, но в
нем с несомненностью прослеживается отношение к науке посвящения. Доводить свои
идеи до целостного мировоззрения, - такой задачи они
не ставили. В большей мере их волновал вопрос: как организовать саму жизнь
таким образом, чтобы уже своей формой она бы вела народ к духу, была бы
всенародным путем посвящения. В соединении идей с правильно организованной
жизнью надеялись они обрести основу и для целостного мировосприятия, и для
целостной личности. Так пришли они к открытию общины.
Славянофилы утверждали, что
община, а не род составляла основу быта древних славян. С усилением монархии
она была разрушена, но должна снова возродиться и стать основой чисто
славянской социальности. Возражая им, те, кого причисляют к западникам, отстаивали
идею развития славян из родового быта. Этой точки зрения придерживались С.М.
Соловьев, К.Д. Кавелин и другие. В статье "Взгляд на юридический быт древней
России" (1847 г.) Кавелин утверждал, что из борьбы родового и семейного начал
возникло противоречие коллективного с индивидуальным, и это привело к
распадению рода. Семьи стали сливаться в общины, но и их единство постепенно
слабело, и тогда на помощь были призваны варяги. Затем семьи начинают снова
разрастаться в роды, а те сливаются, наконец, в государство. Иван Грозный и
Петр I уничтожили последние остатки родового быта (уделы, местничество) и тем
освободили личность.
Как мы видим, кавелинская
конструкция отличается усложненностью и некоторой искусственностью. Не такой
это элементарный процесс, чтобы роды распадались, а потом снова возникали.
Кроме того, если их разрушило индивидуальное начало, то куда же оно потом
делось? А Кавелин утверждает, что "...степени развития начала личности...
определяют периоды и эпохи русской истории".
Воззрения славянофилов на общину
особенно ясно выразил Ю.Ф. Самарин в
статье "О мнениях "Современника", исторических и литературных", в которой он
дал ответ Кавелину. Самарин считает личность началом эгоистическим, ведущим к
разобщению, примером чего служит Европа Поэтому способна ли она стать центром
единения? Из нее может возникнуть ассоциация (по Ж.-Ж. Руссо), но не
органическая община. В то же время, общинный быт славян был основан не на
отсутствии личности, "а на свободном и сознательном ее отречении от своего
полновластия". А это принцип всецело христианский.
Славянофилы различали два принципа
становления личности: освобождение и отречение; первый из них свойствен
европейскому развитию, второй - русскому. Отречение тоже ведет к освобождению,
но специфическим образом. "Личность в русской общине, - разъясняет К.Аксаков, -
не подавлена, она только лишена своего буйства, эгоизма, исключительности .
Личность поглощена в общине только эгоистической стороной, но свободна в ней
как в хоре".82 Общину следует понимать этически - в ней каждый
спасается всеми. Хомяков называл развитие личности через общину органическим
или самобытным, а то, что личность претерпевает в ходе внутренней эволюции -
разумным ее становлением. В целом же человеческая индивидуальность в общине
формируется с помощью "параллелограмма сил", составленного из органического и разумного становления. И то, и
другое, по мнению Хомякова, действовало в России с древнейших времен (Письма из
Англии, 1847 г.). При этом самобытное развитие свело Россию "в одну великую
русскую общину", никак не подавляя "разумного развития личности".*
* Если у нас все же остается вопрос, возможно ли соединить эти два
принципа? то в ответ на него уместно сослаться на опыт Запорожской сечи, где,
пусть в весьма экзотической форме, но люди умели жить вместе "просто и
естественно" (И Репин) и при этом оставаться самими собой, так что свободное
волеизъявление каждого не мешало существованию целого Быт запорожцев,
несомненно, имел и отрицательные стороны, но мы не ищем идеала, он еще нигде не
осуществлен, а указываем на пример того, где "самобытное" и "разумное" все же
смогли ужиться вместе
Что же касается разумного
принципа, то, одержав полную победу при Петре I, он полностью аннулировал в
России самобытное развитие.** Поэтому славянофилы видели в государстве не
свойственную русским форму общественного бытия. Они не отрицали его функцию
"ограждать политическую независимость" (Самарин), но строго разделяли
политическое и социальное; в последнем же подчеркивали примат этического
начала. В одном из писем (1846 г.) Хомяков писал: "По сущности своей мы не
только выше политики, но и даже выше социализма, который есть не что иное, как
вывод, и вывод односторонний, из общего воспитания человеческого духа", поэтому
нельзя безнаказанно "смешивать общественную задачу с политикой".
** Вернее здесь будет сказать, что он вызвал
раскол в русском обществе, оторвал верхний правящий слой и возникающую
интеллигенцию от народа
Хомяков, правда, еще смутно,
различал трехчленность в общественном устройстве, но вполне духовнонаучно
обосновал сущностную природу двух ее элементов, как коренящихся в самом
человеке. В прошлом, говорил он, государство не вмешивалось в дела общины,
"земли", а та предоставляла государству все политические функции. Православие
никогда не притязало на светскую власть, "каждый христианин есть в одно и то же
время гражданин обоих обществ, совершенного, небесного - церкви, и
несовершенного, земного - государства. В себе совмещает он обязанности двух
областей, неразрывно в нем соединенных (выделено нами. - Авт.), и при
правильной внутренней и духовной жизни переносит беспрестанно уроки высшей в
низшую...".***83
*** К Аксаков в записке "О внутреннем состоянии России", поданной
на имя Александра II (1855 г ), писал- "Свобода духа более всего и достойнее
всего выражена в свободе слова" "Правительству - право действия и,
следовательно, закона, народу - право мнения и, следовательно, слова Вот
русское гражданское устройство "
Ранние славянофилы не были идеологами.
Они просто жили и мыслили, мыслили и жили. Не все было безошибочно в их
суждениях, а главное, по причине недосказанности, легко поддавалось искажению,
чем основательно и занялись те, кто во второй половине XIX в. самовольно
объявили себя славянофилами, будучи по духу совершенно чуждыми им. Они
составили целое течение с пресловутым лозунгом: "православие, самодержавие и
народность". Любопытно высказался об этом лозунге проницательный иезуит князь
Гагарин в своей брошюре "Будет ли Россия католической?" (Следует однако
подумать, для чего он это высказал): "... православие, самодержавие и
народность. Это не что иное, как восточная формула революционной идеи XIX в.
...
Когда наступит время, очень
нетрудно будет отделаться от самодержавия, отыскать в народности политические
доктрины свойства самого радикального,* самого республиканского, самого
коммунистического, доктрины, которые теперь, может быть, стоят на втором плане,
но, в глазах посвященных, имеют особую важность. То же и с Православием,
...нужно только посмотреть, с какою легкостью эти, столь ретивые, защитники
Православия сходятся с последователями гегелевской философии в учении об
отношениях церкви к государству.
* К.Леонтьсв заявлял: Политика - это не этика; честные в ней
вреднее, чем люди без убеждений.
Совершенно очевидно, что к
истинному славянофильству это не имеет никакого отношения. Дальнейшая судьба
России сложилась так, что непреодолимые препятствия встали на том пути развития
русской духовности, о котором говорили славянофилы, но в будущем он непременно
снова выйдет на поверхность русской жизни.
* * *
Широким потоком в русскую культуру
XIX в. вошло западническое направление. Его успех был обусловлен двумя
причинами: во-первых, прямым влиянием европейской жизни, во-вторых, характером
православной церкви, всегда чуждавшейся внешнего мира и обращавшейся лишь к
мистической глубине человеческой души. Односторонность церковного воспитания
стала причиной того, что Христианство в России в значительной мере превратилось
в народную религию, Христа стали исповедовать как Бога, господствующего над
миром. В этом, несомненно, был заключен определенный люциферизм, отголосок
религии Ягве, потому влияние церкви на общественную жизнь, а более того, на
общественную мораль приобрело ветхозаветный характер. Когда, вбирая плоды
европейской цивилизации, русские стали переживать в себе интенсивный процесс
тройственной дифференциации, приводящей к разъединению жизнь мыслей, чувств и
поступков, то они оказались к этому совершенно не подготовлены. И это было,
прежде всего, средством самозащиты, когда одни из них обратились к западному
позитивизму, другие - к народничеству, "опрощению" и т.п.
Говорят, что чувство вины
заставило часть интеллигенции пойти в народ, и попытаться уплатить ему долг за
ту жертву, которую он принес ради возвышения образованной части общества. Но
это верно только отчасти. Ибо другой и, может быть, даже более значительной
причиной "хождения в народ" была слабость, собственная слабость разночинной
интеллигенции. Не имея достаточно сил нести "бремя" пробужденной в себе
самодовлеющей личности, они надеялись обрести их в соединении с народом. Однако
народ своей инстинктивной мудростью понял, что эти люди идут к нему не от силы,
а от слабости, не платить долги, а делать новые, и потому не принял народников.
Но не только народники, а и
Гоголь, и Достоевский по складу своей души были западниками, ибо все, чем
страдали они, было решением - конечно, по-русски, очень
своеобразно и отлично от Запада - западной "фауст-проблемы". Мы не можем
ответить на вопрос, почему в них проявился не единый, а тройственный склад
души. В этом действовало какое-то предопределение их индивидуальной кармы. Зато
хорошо различимо внешнее отличие всей конфигурации их душ от той, которая
преобладала у Одоевского, Хомякова, Аксакова, Самарина и др. По своей сути или,
скажем, по форме (это пока совсем не просто выразить) родственны между собой
душевные драмы Гоголя, Достоевского, Герцена, Чернышевского, М.Бакунина.*
* Не случайно именно Достоевский глубже всех постиг природу людей
типа Бакунина.
Возможно, иные спросят нас: что мы
выигрываем от такой перемены привычных понятий о славянофилах и западниках?
Выигрываем мы хотя бы то, что от произвольного идеологизирования и
политизирования обращаемся к пониманию сути дела. А она именно такова, что
русской душе изначально присуще переживание смутного, приглушенного единства,
что проникающий в нее с Запада свет познания обусловливает в ней самобытное
развитие, где не теряется связь с переживанием макрокосмического бытия,
открывавшегося прежде в атавистическом ясновидении, когда даже сама земля была
для русских неким зеркалом неба. В подобном настроении жило древнее наследие
северных Мистерий. С приходом Христианства славяне стали утрачивать связь с
окружающей природой и все более концентрироваться на внутреннем души. Причиной
тому было, конечно, не само Христианство, а та историческая форма, какую оно
приняло в церкви. На Западе жизнь пошла путем преодоления церковного мистицизма
и аскетизма. На Востоке же произошла некая консервация представлений о морали,
благочестии в аскетическом кодексе жизненных установлении. Даже в 60-х годах XIX
века издатель журнала "Домашняя беседа" (его причисляли к славянофильскому
направлению!) Аскоченский громогласно объявил, в связи с опубликованием книги
священника А.М. Бухарева "О Православии в отношении к современности", что
"ратующий за Православие и протягивающий руку современной цивилизации - трус,
ренегат и изменник". Таково же было мнение и Синода.
Когда секуляризованная культура
Запада пришла в Россию, стала через образование проникать в души, то это было
подобно всемирному потопу. Выступила вся неподготовленность русской
интеллигенции к переживанию автономного "я". Отодвинутые на периферию сознания,
благодаря церковному групповому сну, люциферические и ариманические силы вдруг мощно
проявились в душах, разверзая бездну между жизнью чувств и мыслей. Краеугольной
стала проблема: как пережить Христа по-новому, не в виде народного Бога, а как
Бога человеческого "я", дарующего силу удержать господство над разделяющейся
жизнью мыслей, чувств и поступков. Вступившие в борьбу за это новое переживание
Христа в тройственной душе стали "западниками" - не прагматического, а
христианского направления, и первым из них является Чаадаев, затем Лермонтов,
Гоголь и др. Они мистики, и однако же, - "западники", по той, повторяем,
причине, что с
Запада пришел импульс тройственной
души. На своем же собственном пути Россия не столкнулась бы с ним ни в XVIII,
ни в XIX веке. Эта вовсе не означает, что ей бы тогда не удалось преодолеть
своей отсталости. Отсталой ее сделали Василий III, Иван IV и Петр I. Без них на
востоке Европы, вероятно, сложилась бы федерация земель, свободно объединенных
лишь интересом национальной безопасности, а внутри развивающихся из импульсов
духа, не скованных идеологической, государственной условностью, и самобытных в
силу различий народной ауры Юга, Севера и Середины.
Развитие другого течения в русском
западничестве приняло характер катастрофы. Его представители, легко становясь
добычей ариманических сил, впадали в материализм, в атеизм. Первыми здесь были
"вольтерьянцы" XVIII в., но и в XIX в. русские материалисты представляли собой
нечто совершенно иное по сравнению с западными. На Западе материализм возник
как неизбежный этап на пути самосознания к завоеванию индивидуального "я"; в
России он всегда носил характер болезни, или ему следовали чисто подражательно,
превращая его в некоего рода новую веру. Всецело положительным был тот опыт
прохождения через тройственную душу, к которому пришел Чаадаев. Однако за ним
не пошли. Больше понимания он нашел в среде славянофилов, чем западников.
Причина этого была в том, что западники быстро теряли интеллектуальную самостоятельность
и внешние влияния легко принимали за собственные убеждения.
По-настоящему мощный прилив волн
самосознающей души пришел в Россию с началом XIX века. Он вызвал в русской
жизни появление так называемых "лишних людей" (к ним совершенно ошибочно причисляли
Чаадаева). В литературе это нашло свое выражение в образах Печорина, Онегина,
Обломова и др. Не условия общественной жизни породили этих людей, а процессы,
совершавшиеся в душах: внутренняя растерянность при утрате инстинктивной основы
жизни, неспособность организовать индивидуальное бытие из сил собственного "я".
Трагедия их заключалась в том, что, с одной стороны, они больше не хотели
инстинктивно или условно следовать общепринятым нормам морали, стремиться к не
ими самими избранным целям, а с другой - были неспособны найти эти нормы и цели
из самих себя. Даже Грибоедовский Чацкий силен лишь в критике фамусовского
общества, но того, что называется позитивной программой, у него нет совсем. В
прошлом, писал Герцен, "стоило сообразоваться с положительным законом, и
совесть удовлетворялась"; теперь же "... мы беспрестанно останавливаемся, как
Гамлет, и думаем, думаем... некогда действовать; мы переживаем беспрерывно
прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими, - ищем оправданий,
объяснений, доискиваемся мысли, истины" ("По поводу одной драмы", 1842г.).
Особенно характерен для типа
"лишних людей" был В.Печерин (не лермонтовский герой, а подлинная личность).
Обладая незаурядными умственными способностями, он успешно окончил университет
и был послан на научную стажировку в Европу, после чего перед ним открывалась
блестящая профессорская карьера. Но совершенно неожиданно он снова и навсегда
уехал за границу, вступил там в полуиезуитский орден редемптористов и после напряженного курса духовных
упражнений в течение многих лет участвовал в "кавалерийских атаках" своих
духовных сподвижников на тот контингент католической паствы, в котором, как они
считали, ослабевал "пламень веры". Атаки эти состояли в том, что в какой-либо
деревне неожиданно появлялась группа редемптористов. В местной церкви они
начинали курс проповедей, играя в основном на двух переживаниях: страха и
надежды, в несколько дней доводя прихожан до истерики. Для этого требовалось
умение с помощью ораторских приемов воздействовать на психику. Печерин блестяще
подвизался на этом поприще, однако в конце концов он почему-то все же ушел от
редемптористов, некоторое время провел у цистерцианцев, а кончил дни свои в
Англии, где многие годы прослужил больничным священником. Внутреннее состояние,
приведшее Печерина (бывшего до 33 лет совершенно равнодушным к вере) в лоно
столь неистового вероисповедания, характеризует его письмо к графу
С.Г.Строганову.
Граф был назначен попечителем
Московского округа и главной своей целью поставил обновление Университета. Он
всячески опекал преподавателей, приглашал в Москву из других городов
перспективных молодых людей; определенные надежды связывал он и с одаренным
Печериным. Его неожиданный отъезд не только огорчил Строганова, но и поставил
под удар все его начинания, ибо Печерин обучался в Европе на государственный
счет, чтобы затем, в свою очередь, обучать русское юношество. Поэтому его
бегство из России было просто бесчестным поступком и могло в правительственных
кругах подорвать доверие к намерениям Строганова. Строганов послал Печерину
письмо, уговаривая его вернуться, и тот в своем ответе дал некоего рода
исповедь. "Почти с моего детства, - писал он, - надо мною тяготеет непостижимый
рок. Я повинуюсь необоримому влечению таинственной силы (она являлась ему даже
ясновидчески. - Авт.), толкающей меня к неизвестной цели, которая мне виднеется
в будущности туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех
земных величий...
Когда я увидел эту грубо-животную
жизнь... (в России) я погрузился в мое отчаяние... я избрал себе подругу...
Этой подругой была ненависть! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой
ко всему меня окружавшему!" Далее Печерин пишет, что однажды он услышал голос
своего бога, повелевшего ему покинуть "страну отцов своих", и вскоре весь его
"катехизис свелся к этому простому выражению: цель оправдывает средства", и он
отдался служению "неумолимому Божеству".
В этом откровенном признании
Печерина налицо все симптомы люциферического искушения. Его "неумолимое
Божество" - это не кто иной, как лермонтовский Демон. Только, в отличие от
княжны Тамары, женственная душа Печерина принимает его за истинного Бога и
приводится для служения ему к редемптористам, чьим богом он в действительности
и является. Общественный долг, служение обществу на поприще образования - все
это были вещи слишком ничтожные в сравнении с той болью, что охватила вкусившую
люциферических плодов душу Печерина. Друг Печерина Чижов, посетивший его в
монастыре, потом писал о нем, что там его "чувствам дана полная свобода, воле -
ни одного шага, ни полшага, а он только этого и хотел". Действительно, в этом
вся разгадка тайны Печерина. - Кому вручить эту невыносимую, пришедшую к
свободе волю? - вот та проблема, что мучила его, и состояние русского общества
было тут ни при чем. Не эту ли самую проблему вскрыл Достоевский в
"Преступлении и наказании"? Мережковский так объясняет причину покаяния
Раскольникова: он "убил старуху, следуя теории, что "все позволено" выдающимся
людям для достижения ими их идеи... он заглянул в бездонную глубину
человеческой совести - увидел зияющую пустоту, увидел полную свободу, не
имеющую никаких границ. Этой-то свободы он и не выдержал, не вместил...".
84
Тот же самый печеринский склад
души встречаем мы и в сподвижнике Герцена Н.П.Огареве. Судьба определила ему
быть крупным помещиком, т.е. фактически - рабовладельцем. И вот в нем возникает
намерение освободить своих крепостных и заняться их культурным развитием. Он
предоставляет возможность половине из них (только половине!) выкупить себя, но
так, что еще в 70-х годах, когда уже по всей стране было отменено крепостное
право, они не могли рассчитаться с долгами своему освободителю. При этом все
было сделано настолько неумело, что бедные крестьяне тут же попали в кабалу к
зажиточным, поскольку выкупная цена была разложена на всех поровну. Задумал
далее Огарев учредить для народа школу по прогрессивной для того времени
системе; друзья загорелись желанием помочь ему. Но все это Огарев вскоре
забросил и уехал за границу. Не преуспев в малом, но реальном, живом деле, он
поставил себе цель: Я стану в чуждой стороне Порядок, ненавистный мне, Клеймить
изустно и печатно, И, может, дальний голос мой, Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом, Накличет бунт под русским небосклоном.
Сущим "дном" русского
западничества явился нигилизм. Первым его природу распознал И.А.Гончаров
(1812-1891), показав ее в романе "Обрыв", о котором один литературовед сказал,
что им обозначен "обрыв" в русской жизни. Это в высшей степени эпическое
произведение, все его образы мифологически емки. На дне глубокого оврага
происходят свидания героини романа Веры с Марком Волоховым, предтечей Петра
Верховенского - героя романа Достоевского "Бесы", который, в свою очередь, имел
живым прообразом террориста С.Г.Нечаева (его деятельность активно поддерживал
Огарев). Образ Веры - это как бы сама женская ипостась русской души. Ее мужская
ипостась - Райский, дальний родственник Веры, ищущий ее любви. Райский несет
Вере новое знание, которым хочет расшатать живущие в ней традиционные взгляды
на мораль. Но она отталкивает и его любовь, и его, лишь бравирующее модной
эмансипацией, знание.
Как представители единой души,
коренящейся в русской древности, Вера и Райский - из одной семьи; у них одна
бабушка - Бережкова. Но в них есть нечто и от общечеловеческого начала,
восходящего к моменту сотворения человека Богом. Только в Раю Ева искусила
Адама яблоком с древа познания, теперь же Райский (его
фамилия со смыслом) искушает познанием Веру. Такая перемена произошла по той
причине, что на место древнего, люциферического искушения пришло новое,
ариманическое. Ныне женская ипостась в человеке является хранительницей
теургического, авелева начала, мужская ипостась несет на себе каинову печать
рассудочных спекуляций. Райскому надлежит не терять связи с живым источником
знания и его свет вносить в единую душу, а не в легкомысленную игру ума. Его
рассудочная апология новой морали звучит для Веры как ложь. От Райского ей
нужно совсем другое. Она чувствует свою, скажем, профеноменальную единосущность
с ним, и потому между ними возможен лишь братский, духовный союз, который она
стремится обратить на нечто иное - на служение ее любви к Марку Волохову. Он -
представитель тройственной души, и с ним хочет вступить в союз древняя русская
единая душа. Его знание еще более примитивно, чем у Райского, но он - один из
"малых сих", с него и спрос другой. Некогда Боги сходили к дочерям Земли, и вот
сама русская Душа, как Божественное Существо, склоняется к сыновьям Земли,
погрязшим в ариманическом искушении. Любовь Веры (ее имя тоже со смыслом)
должна возвысить Волохова, через их союз должно прийти спасение русской фаустовской
души, возвращение ее, как блудного сына, к Богу, соединение сил единой и
тройственной души, прошлого и будущего России, где основой всего станет любовь,
очищенная от сословной неправды и приносимая одним человеком другому как дар.
Намерение Веры кончается
трагедией. Причин тому - две. Первая состоит в том, что ариманическое жало
проникло в мужскую ипостась единой души и соблазнило ее иллюзорным знанием:
Райский потерял связь с живым источником знания и осквернил святость духовной
любви. Отсюда проистекает вторая причина: Марк Волохов, с его нигилизмом, - это
лишь проекция архетипической природы Райского на земной план жизни. Творимое
Волоховым зло - лишь следствие грехопадения Райского. В то же время, феномен
Волохова - закономерное звено развития, поэтому он также повинен в трагической
развязке, в которой по сути выражается несостоятельность намерения русской
тройственной души идти своим путем. В Волохове имеются зачатки той
индивидуальной свободы, к которой человеку было предопределено прийти с момента
"изгнания из Рая", но соединение русской души с этой свободой произошло не
органично - в Волохове обнаруживается не сила познания индивидуального духа,
возвышающаяся любовью, а лишь моральная ущербность. Его острые суждения - вовсе
не от свободы, а от мелочного, ущемленного эгоизма; иллюзию ума в нем рождает
цинизм. Огромная любовь Веры обрушивается на него как катастрофа, он не
выдерживает ее и, приведя Веру к падению, сам падает несравненно глубже.
Окончание романа носит пророческий
характер. Оно разворачивается во времени, простирающемся в некое будущее,
очертания которого туманны. Вера возвращается назад, к миру сущностных сил
русской души. Бабушка Бережкова мужественно и с большим тактом помогает ей
вновь обрести себя (войти в берега, уберечься) в самую трудную минуту, а затем
Вера выходит замуж за Тушина,
в чьем образе выражена природа древней русской воли (калики Иванчища), которая
знает не размышляя, и любит не отступая. "Поумневший" Райский уезжает в
Петербург, но мы не знаем, будет ли дальнейшая его жизнь более содержательной,
чем прежде. Марк Волохов уходит во мрак безызвестности. Между единой и
тройственной душой разверзается непреодолимая пропасть.
Нигилистами по
большей части становились разночинцы. И таковым показан в романе Волохов. Это
сословие находились в совершенно особых условиях. С одной стороны, приобщаясь к
образованию, оно теряло связь с моральными устоями народа, к которому было
близко и по происхождению, и по имущественному цензу. С другой стороны, оно не
могло соединиться с культурными традициями, которыми обладала дворянская
интеллигенция. На рискованном пути от души ощущающей к сознательной разночинцы
были совершенно беззащитны, и потому легко становились добычей любых темных
сил, "нечаевщины" и проч. Правда, не все разночинцы становились нигилистами и
не все нигилисты были из разночинцев. Позже в их среду вовлекался и кое-кто из
великих князей, но то уже была большая политика и кое-что похуже. Мы же берем
этот феномен в его главном содержании. А тогда представляется совершенно
ошибочным причислять к нигилистам, например, Д.И.Писарева - типичнейшего
штирнерианца из русских.
В борьбе за
индивидуальное я-сознание человек неизбежно приходит на какое-то время к
крайнему эгоизму. Но эгоизм не следует смешивать с нигилизмом. Ведь это глубоко
значительно, что уже в 19 лет (в 1859 г.) Писарев писал матери: "Я решил
сосредоточить в себе самом все источники моего счастья; с этого времени я начал
строить себе целую теорию эгоизма". По смыслу это почти те же слова, которыми
Макс Штирнер предваряет свой труд по философии индивидуализма "Единственный и
его достояние". "Что только ни должно быть моим делом! - пишет он, - ...Только
мое собственное дело никогда не должно быть моим делом. ...Мне нечего
доказывать, что каждый, желающий свалить свое дело на наши плечи, имеет в виду
при этом себя, а не нас, свое благо, а не наше. ... Мое дело ни божье, ни
человеческое; мое дело - ни истина, ни благо, ни справедливость, ни свобода и
т.д. Мое дело - только мое дело, не общее дело, а единственное, как единственен
я сам! Мне нет дела ни до чего, кроме меня!" Но Писарев еще стоял за
самоусовершенствование.
Нет, не Писарев
нигилист, и не тургеневский Базаров, а Волохов, Верховенский, Термосесов* из
романа Лескова "Соборяне", террорист Нечаев85 и поздний Бакунин. Их
вообще было много в кругу Герцена.
* Термосесов говорит князю Борноволокову, однажды соблазнившемуся
ролью русского "Egalite": "Религия может
быть допускаема только как одна из форм администрации. А коль скоро вера
становится серьезной верой, то она вредна, и ее надо подобрать, подтянуть". По
этому поводу, конечно, можно бы было вспомнить атеизм Писарева и кое-что иное в
его сочинениях. Но мы подчеркиваем, что речь идет о штирнерианце, возникшем на
русской, а не на западноевропейской почве. Поэтому важно в таком феномене
отделить существенное от несущественного.
Заграничная
деятельность Герцена имеет немало сторонников, и нам не хотелось бы вступать с
ними в спор. Однако нельзя пройти мимо ряда фактов, которые
сами говорят за себя. Одно время возле Герцена подвизался некий "красный" князь
П.В. Долгоруков (из Рюриковичей). Он стал известен благодаря сенсационным
разоблачениям пороков частной жизни крупнейших сановников. В одном из писем он
рассказывает о своей встрече в Англии с кругом Герцена следующее: "Познакомился
с Кельсиевым, тупоумным, но добрым человеком, ужаснейшим фанатиком с лицом
самым добродушным. Кельсиев, мягким голосом, с нежным взглядом, говорит: "Ведь
коли нужно будет резать, как не резать, если оно может быть полезным?" ...
"жечь, резать, рубить" у них не сходит с языка со времени приезда в Англию
Бакунина, который говорит: "Я вас очень полюбил, но уж извините, когда мы
заберем власть в руки, мы вам и вашим единоверцам будем рубить головы". 86
Широка была
амплитуда метаний и у Белинского, от: "Я не хочу счастья и даром, если не буду
спокоен насчет каждого из моих братии", - до: "Я начинаю любить человечество
по-маратовски: чтобы сделать счастливейшей малейшую часть его, я, кажется,
огнем и мечом истребил бы остальную..." (письма Боткину от 1 марта и 28 июня
1841 г.). Что можно сказать на это? - Шигалевщина. Нигилизм, в ком бы он ни
проявлялся, - явление специфически русское, ибо русскому интеллигенту часто ум
не в ум, если голову не затопляют эмоции. Стоит только вслушаться, что в
народников, что в социалистов - афористичный, безапелляционный тон, дух
пророчества, из всех философских, научных идей они всегда эмоционально делают
этические выводы, на собственный вкус. Небесполезно также посмотреть и на их
лица старцев-пустынножителей (Лавров, Михайловский) или сравнить, например,
облик Бакунина с представителем английского анархизма Д ж. Г. Маккаем. Тогда
станет понятно, почему долго усыпляемая, а потом грубо разбуженная русская
душа, будучи бесцеремонно "втолкнутой" в эпоху души сознательной, заглянула в
саму бездну.
Однако не стоит
видеть лишь инфернальное в характерах даже наиболее радикальных западников. В
них есть и немало положительного, неоспоримо ценного для эволюции человеческого
духа. Не признать этого - означало бы принять точку зрения Д.Ф.Штрауса,
считавшего, что гетевскому Фаусту лучше бы было стать хорошим инженером,
сделать ряд полезных изобретений и жениться на Гретхен, а не пускаться на
разные авантюры. Развитие индивидуального я-сознания составляет цель всего
земного зона, центральный пункт которого - эпоха души сознательной. Поэтому
столь ужасен кризис культуры и цивилизации, в которой мы живем. В наибольшей
тьме должен воссиять свет свободного духа, который отныне становится главным
принципом развития до "конца земных времен". Его всеобъемлющая формула дана
Р.Штайнером в медитации "Камня основы". Эта медитация не проста, но соединение
с нею дает силы преодолеть "разорванную личность" и обрести целостное
самосознание, выражающееся в господстве индивидуального "я" над
дифференцированной жизнью души. В человеческом мышлении как в микрокосме
открывается (вплоть до "узрения") интеллигибельный макрокосмос, сферы
Божественной Софии, сферы Святого Духа. Жизнь уходит своими корнями в Отчее
начало (мы имеем в виду текст медитации).
После Мистерии Голгофы рвутся
кровнородственные связи людей, вызывая в душах чувство отчуждения. Разрыв между
внешним и внутренним миром обостряет раскол души, но это способствует
укреплению личности, если она вновь обретает единство: "Претерпевший до конца
спасется". В помощь человеку между принципами Отца и Духа встает Сын. Он
действует в сфере ритма, в человеческой груди, в сердце. Это Любовь. Любовь
соединяет познание с жизнью, начиная от "поворота времен", когда "Свет Мирового
Духа... воссиял в человеческих душах".
Любовь и свет, жизнь и познание,
познание и вера - они соединимы лишь в человеке и через человека. Не только
людям, но и Богам, Иерархиям нужен этот синтез; потому Их милость и любовь
обращены к каждому, кто честен и борется.
Если не во всем объеме, то, смеем
сказать, в существенных частях эту мировую проблему чувствовали русские
интеллигенты и искали путь к ее решению. И духовное водительство было на их
стороне во всех случаях, кроме тех, когда его отвергали решительным образом и
до известной степени сознательно. В пору народного детства посвященные России
совершали свою работу непосредственно в сфере сущностных сил эфирной и астральной
ауры народа. Начиная с эпохи Просвещения, правомерными становятся только те
действия, которые обращены к человеческому самосознанию. Поэтому меняется и
характер водительства. Современный посвященный далеко не всегда может
производить впечатление магической сверхличности. Уже о Сергии Радонежском
рассказывают, как однажды пришел человек посмотреть на великого подвижника и
воскликнул: "Аз пророка видете приидох, вы же простого человека, паче ж сироту
указуете мне".
Да, среди людей живет теперь
человек высшего знания и опыта и делает то же, что и они, но - по-другому, так,
что в его поступках можно разглядеть отблеск высших целей, в повседневном быте
- отражение вечности. Велико ли, казалось бы, было дело кружка "Любомудров" в
его, так сказать, земном измерении? Но вот, время идет, а люди все снова и
снова в мыслях обращаются к тем, кто полтораста лет назад собирался для того,
чтобы дать космической интеллигенции войти в русскую жизнь. Ими было посеяно
семя, которому суждено прорастать в веках, семя для будущей славяно-германской
культуры, для той ее весьма существенной части, где русский мистический реализм
должен оплодотворить себя импульсами немецкого идеализма и Гетеанизма. Что это
так, в немалой мере доказывают те колоссальные препятствия, что воздвигаются
духами тьмы на пути этого синтеза. Но, несмотря на них, процесс идет в
подосновах душ и набирает там силу.
Много добрых семян было посеяно в
России в XIX веке. Жива и поныне память о другом кружке русских мыслящих людей,
близко примыкавшем по времени к кружку "Любомудров". В его центре стоял
Н.В.Станкевич (1813-1840). Одни из членов этого кружка, действовавшего также в
Москве, впоследствии стали славянофилами, другие - западниками. Но пока все они
были вместе, некий добрый гений витал над ними и побуждал их к тому действию,
из которого мог бы произрасти синтез единой и тройственной души. И.С.
Тургенев в романе "Рудин" описал этот кружок.. Вот как говорит о нем один из
героев романа: "Вы представьте, сошлись человек пять, шесть мальчиков, одна
сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые;
а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого
восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о Боге, о правде, о
будущности человечества... Вот уж утро сереет, и мы расходимся, тронутые,
веселые, трезвые... Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на
звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали и понятнее".
Может ли родиться подобное
настроение из одних лишь умственных интересов, когда нет в них искры Божией?
Всего пять-шесть юношей "сошлись" вместе, однако, когда умер Станкевич (в
возрасте 27 лет), то печаль охватила всю русскую образованную молодежь. Все
почувствовали, что с этим кружком было связано нечто куда более значительное,
чем просто дружба и идеалы молодых людей. "Нас соединил Бог", - сказал о кружке
В.П.Боткин, один из его членов.
В самом Станкевиче жил импульс
единой души, и он нащупывал путь, по которому было бы можно пройти через сферы
тройственной души. Он, как пишет М.Гершензон, "был именно прообразом своего
времени: с такой безусловной цельностью, в столь чистом виде не пережил этого
процесса ни один из его сверстников".*87 Недаром М.Бакунин говорил о
нем (и обо всем кружке): "Я подружился также с Станкевичем, и здание моей
будущности имеет прочное основание. Но отнимите вы эту опору, отнимите дружбу
вашу - я думаю, что оно упадет и никогда более не подымется... Мы не можем
никогда разойтись. Что до меня касается, то это был бы мой смертный приговор.
Итак, будем жить вместе, сольем наши души в одну..." (Письмо к Ефремову, 1835
г.).
В этом признании Бакунина есть
что-то от того настроения, в котором жило братство древнего Печерского
монастыря. В XIX веке спиритуальный источник открылся совершенно по-новому. Все
припали к нему и в служении реальному духу обрели смысл своего существования.
Поэтому Бакунин писал в ту пору: "Назначение человека - перенести небо,
перенести Бога, которого он в себе заключает, на землю... поднять землю до
неба." (Письмо 1836 г.). Также мыслил в то время и Белинский (тоже член
кружка). "Весь беспредельный прекрасный Божий мир, - писал он, - есть не что
иное, как дыхание единой, вечной идеи (вечного Бога), проявляющейся в
бесчисленных формах, .как великое зрелище абсолютного единства в бесконечном
разнообразии..." ("Литературные мечтания").
В братском единстве черпали силу
русские юноши, вступавшие в свет познания. Однако вокруг поднимался новый мир
материальной культуры.
* Сам о себе Станкевич писал в письме к близкому другу
Я.М.Неверову: "На жизнь мою смотрю теперь с двух сторон, спрашиваю себя о двух
вещах: в чем уклонился я от долга? Что сделал дурного? и - что сделал я
хорошего в положительном смысле? Я не могу сказать, чтоб я действовал против долга,
но, кажется, слишком давал волю эгоизму и от этого был постоянно неспособен к
высокости души ... das Schein (видимость) у меня часто противоположно dem Sein (бытию),
особенно в обществе - хотя не из дурных видов ...".
Обрести себя в нем индивидуально
было совсем не просто. В этом с полной откровенностью признается Чернышевский
(Дневники 1848 г.): "Что если мы должны ждать новой религии? У меня волнуется
при этом сердце и дрожит душа -я хотел бы сохранения прежнего... Я не верю,
чтобы было новое, - и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом
Христом, Который так благ, так мил своей личностью, благой и любящей
человечество". Это чувство Чернышевского более подлинно говорит о нем, чем весь
его последующий материализм, до последней буквы заимствованный на Западе.
Созвучно с Чернышевским переживал новую реальность философски мыслящий
священник А.М.Бухарев, писавший в "Трех письмах к Гоголю" (по поводу душевной
драмы Гоголя): "...духовное сознание истины в одном Христе связывается с
какой-то страшливостью и беспощадностью относительно всего, не носящего открыто
печати Христовой" (СПб, 1861, стр. 5).
Однако пути назад у русской
интеллигенции уже не было. Можно было или победить, или погибнуть. "Вне нас все
изменяется, - писал Герцен, - все зыблется; мы стоим на краю пропасти и видим,
как она осыпается ... и мы не сыщем гавани, как в нас самих, в сознании нашей
беспредельной свободы, нашей самодержавной независимости..." ("Былое и думы",
т.\0. Вопрос был лишь в том, каким содержанием наполнить свободу, дабы она не
зазияла бездной, как перед Раскольниковым. Ни для кого не было тайной, где
взять это содержание: ни для Герцена, ни для Бакунина, ни для Белинского и всех
других социалистов, народников, анархистов, материалистов. Об этом за всех за
них сказал Белинский: "Сам Спаситель сходил на землю и страдал за личного
человека." Вне этой мысли этический императив Н.К. Михайловского: "Личность
никогда не должна быть принесена в жертву, она свята и неприкосновенна..." - лишь
фраза; в связи же с ней - глубочайшая истина, само знамение времени. Тем же,
кто не "вместил" этой истины, печальной эпитафией звучит стихотворение А. К.
Толстого:
Господь, меня готовя к бою,
Любовь и гнев вложил мне в грудь,
И мне
десницею святою
Он указал правдивый путь;
Вооружил могучим словом,
Вдохнул мне в сердце много сил,
Но непреклонным и суровым
Меня Господь не сотворил.
И гнев я свой растратил даром,
Любовь не выдержал свою,
Удар напрасно за ударом
Я, отбивая, устаю.
Навстречу их враждебной вьюге
Я вышел в поле без кольчуги
И гибну раненый в бою.
"Враждебная вьюга" - в ней идут
"Двенадцать" А.Блока; впереди мелькает загадочный облик. Им кажется (как и
Блоку), что это Иисус Христос, но это Люцифер. На нем розы (в "белом
венчике"), снятые с креста. "Державным шагом", в
"самодержавной независимости" шествуют за ним "Двенадцать", как мальчик Кай за
Снежной Королевой, - в ледяную пустыню, а вверху вьется красный кентавр.
Положительные искания западников в
XIX в. находят свое завершение в двух великих фаустовских душах - в Льве
Толстом и Владимире Соловьеве. Их творчество слишком велико, чтобы в немногих
словах дать его анализ. Скажем только, что в Л.Толстом Р.Штайнер особенно
подчеркивал сам образ его действий как всецело проистекающий из автономной
личности. Абсолютно все (вплоть до Евангелий!) он пытается обосновать, исходя
из себя. В этом выразился характер Самодуха. Из его сферы черпал Толстой, но
поскольку это было преждевременно, то неизбежно он впадал в ошибки. Однако
важны не они, а сам образ явления Самодуха в нашей культуре. "Ошибки, - говорит
Гете, - принадлежат библиотекам, истина же - человеческому духу".
Во Вл. Соловьеве нам предстает
"я", вполне овладевшее тройственной душой. Все его творчество исполнено
красотой и гармонией взаимодействия мысли, чувства и воли. Его путь был нижним.
Р.Штайнер говорит о трех ступенях на пути к духу, которые проходит душа при
мистическом погружении в себя. Первая ступень состоит в переживании духа в
предчувствии; вторая - "некое, в духе древних пророков, действительное
переживание будущего в видении, где уже живет нечто от того, чем является дух,
как семя будущего. И третья ступень... это апокалиптическое созерцание мира".88
Несомненно, причастность к этому пути привела Вл. Соловьева к пророческим
переживаниям, изложенным им в "Трех разговорах" * В своей обращенности к
внешнему космосу он, подобно самому Платону, поднимается до созерцания идей. На
этой основе он строит свою религиозную философию, учение о Софии, Божественной
Премудрости, строит ясно, реалистично, даже несколько рационалистично. Как и
Одоевский, он считал, что прогресс человеческого духа идет по пути личного
нравственного совершенствования.** При этом усилия индивидуальной воли
дополняет благодать, приходящая свыше. Исторический процесс движется Софией,
Мировой Душой предшествовавшего истории космического процесса. Цель истории -
привести человека к "цельной жизни", которая, в свою очередь, ведет к общению с
"вечно и истинно сущим". Достигается это с помощью "цельного знания", которое
представляет собой синтез философии, науки и теологии.89
* Этим же объясняется и социальная проницательность Достоевского.
** Также и Л.Толстой главное видел в том, чтобы "освободить себя
самого", ибо "Царство Божие внутри вас".
Философия, "в смысле отвлеченного,
исключительно теоретического познания", вкупе с естествознанием, подготовила
Христианству "новую, достойную его форму", несмотря на их равнодушие и даже
враждебность к нему. (Письма, т. III, стр. 89). Ныне их роль уже исполнена.
(Вспомним при этом, что говорилось выше о планах Христиана Розенкрейца).
Интеллигибельный мир сам открывается человеческому созерцанию, и индивидуальный
дух в "интеллектуальной интуиции" вновь приходит к первичной форме цельного
знания. В самой же интуиции индивидуальный дух обретает "форму всеобщей цельной истины". Это непосредственное восприятие
абсолютной действительности есть вера. Отсюда примат этики над знанием.
Е.Трубецкой упрекает Вл. Соловьева
в том, что у него "отсутствует грань между мистическим и естественным". В
действительности же как раз в этом заключается все его значение как творческой
индивидуальности, соединяющей оба пути развития человеческого духа.
"Человечество истинное, чистое и полное,
- говорит Соловьев, - есть высшая и всеобъемлющая форма и живая душа природы и
вселенной, вечно соединенное и во временном процессе соединяющееся с Богом и
соединяющее с Ним все, что есть." Оно есть "София - Великое, царственное и
женственное Существо".90 В этой единой формуле антропология и
историософия Вл. Соловьева поднимаются до истинной Антропо-Софии.
Галерея
мыслеобразов
Напряженное стремление к единству
этики и познания становится отличительной чертой русской культуры, начиная с
последней трети XVIII в. Уже Д.И.Фонвизин (1744-1792) в комедии "Недоросль"
говорит: "... ум, коль скоро он только ум, - самая безделица; прямую цену уму
дает благонравие". Не из европейского просвещения приходит этот принцип
морального познания, он составляет неотъемлемую черту самого русского
характера. Французский писатель Э.де-Вогюэ, долгое время живший в России,
впоследствии не без некоторого удивления писал: "... каждое их произведение
мотивируется двойным стремлением - к истине и справедливости. Это стремление - двойное
для нас (людей Запада) и единое для них".
Оно едино благодаря
ориентированности русского духа на интуицию, на откровение, приходящее из сферы
Самодуха, где интеллектуальное и нравственное слиты воедино (см. схему выше).
Но у этого единства есть еще один элемент - эстетика. Из индивидуального
осмысления сверхчувственного, явленного в произведениях искусства, возникла
наука о прекрасном. Истина, красота, добро нераздельно господствуют в мире
духа, и только на земле они явлены раздельно. Приходя через художественное
творчество к переживанию их триединой сути в земном мире, человечество тем
самым вновь поднимается к духу.
Задача искусства, как считал Вл.
Соловьев, состоит в превращении "физической жизни в духовную, т.е. в такую,
которая, во-первых, имеет сама в себе свое слово, или откровение, способное
непосредственно выражаться вовне, которая, во-вторых, способна внутренне
преображать, одухотворять материю или истинно в ней воплощаться, и которая, в
третьих, свободна от власти материального процесса и потому пребывает вечно.
Совершенное воплощение этой духовной полноты в нашей действительности,
осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного
организма есть высшая задача искусства.". (Статья "Общий смысл искусства").
Очевидно, что решение подобной задачи невозможно вне связи с общественной
жизнью (что Одоевскому еще представлялось "таинственным"), потому искусство
позволяет "устранить насилие, и только искусство может это сделать"
(Л.Толстой).
Большой вклад в разгадку тайны
искусства вносит Духовная наука, раскрывая мир его профеноменов. "Рядом с
ариманической, - говорит Р. Штайнер, - рассудочной, сухой, холодной наукой
выступает душевная мистика, выступает то, что в религиозном исповедании делается
аскетическим презрением к Земле и т.п. ...но что не только правомерно, но
является необходимым действием люциферического в прогрессивном развитии
человечества, это заявляет о себе в творчестве, когда человек материальное
бытие ...ослабляет до видимости и использует его в этой видимости, дабы
изобразить сверхчувственное ...которое, однако, в своей духовной
действительности не может быть одновременно действительным и чувственным
благодаря одному только природному бытию... И когда человек ищет правильного
равновесия между люциферическим и ариманическим, то он должен в этом равновесии
дать действовать форме прекрасного, художественного, люциферического...".91
Не следует шокироваться ролью
Люцифера в жизни прекрасного. Ему дано импульсировать художественное
творчество, но задача художника - поставить эту его деятельность на служение
Христу, христианизировать искусство. И, по сути дела, эта и никакая иная задача
решалась до последнего времени всем европейским искусством христианской эры,
античность же была полным значения предвосхищением христианской эстетики.
Становление культуры
индивидуального духа в русской жизни, с ее особым отношением к Импульсу Христа,
совершенно органично пришло в связь с принципом триединства истины, красоты и
добра. А поскольку русской душе предстояло проходить через эпоху души
рассудочной, но при этом не утрачивать внутренней пластичности, то искусство
(во всех его формах) стало в подлинном смысле одной из главнейших форм русского
мышления. Ведь красота - это "прямая объективация идеи" (Вл. Соловьев); потому
столь философична русская литература, а живопись может показаться литературной.
Однако общим у них является лишь философский смысл, который можно из них
извлечь, средства же совершенно разные.
Мы уже говорили и старались сделать
это наглядным, насколько симптоматологична русская живопись. До определенного
момента она отражала процесс воплощения индивидуального я-сознания, а затем
стала формой, скажем, видимой мысли или видимой речи. Что в Европе шло путями
самостоятельных наук: философии, психологии, социологии, в русской
реалистической живописи (а также и в литературе) XIX века выражало себя в форме
чисто художественного мышления. Русская живопись, особенно начиная со второй
трети XIX в., была по преимуществу средством познания духовной реальности в
физической, а значит - законов развития этой последней как сферы человеческого
обитания.
XIX век ознаменовался для России
яркой вспышкой самопознания, что сопровождалось появлением не только мощной
плеяды творцов русской культуры, но целой культурной общественности, без
которой столь индивидуальное творчество не мыслимо. В живописи новый дух века
вызвал глубокий перелом. После Венецианова в ней возникает то развитие, первым
провозвестником которого является П.А. Федотов (1816-1852).
>
Этот художник происходил из
военной семьи и свою карьеру начинал офицером, что было в его время типично для
большинства русских образованных людей. Но однажды его картины увидел великий
князь Михаил Павлович и показал их Николаю I. Это событие оказалось для
Федотова судьбоносным. Николай I предложил ему выйти в отставку и посвятить
себя живописи; при этом была обещана пенсия в 100 руб. в месяц. Офицерское
жалованье изрядно превышало эту сумму, и требовалось известное мужество, чтобы
решиться на такой ответственный шаг, тем более, что семья художника нуждалась в
его помощи. Кроме того, Федотова мучило сомнение: не упустил ли он уже время
для совершенствования художественной техники. Опасаясь того же, даже Брюллов
посоветовал ему службы не бросать. Однако любовь к искусству пересилила все
сомнения, и Федотов принял предложение царя. Начались годы напряженнейшего
труда, о котором он сам впоследствии сказал:
Я ж время как алмаз берег,
И
звонче вышел мой итог.
Чтобы понять феномен творчества
Федотова, необходимо хотя бы вкратце остановиться на характере художника, на
среде, в которой он вырос. О поре своего детства сам Федотов рассказывает
следующее: "...наша прислуга составляла часть нашего семейства, болтала передо
мной и являлась нараспашку; соседи были все люди знакомые; с их детьми я
сходился не на детских вечерах, а на сеннике или в огороде; мы дружились,
ссорились и дрались иногда, как нам только того хотелось. ...Все, что вы видите
на моих картинах ...было видено и даже отчасти обсуждено во время моего
детства... Сила детских впечатлений, запас наблюдений, сделанных мною при самом
начале моей жизни, составляют, если будет позволено так выразиться, основной
фонд моего дарования".92 Следствием такого воспитания было то, что
всю жизнь о своем слуге Федотов говорил: "мой слуга и друг". Что же касается
детских впечатлений, то они у Федотова обладали необычайной силой благодаря его
совершенно особому воображению. Когда, будучи еще маленьким, рассказывает он,
ему доводилось глядеть на ландкарту, то около него "будто бродили львы,
крокодилы и удавы", а история превращалась в ряд драматических сцен "в костюмах
и с приличной обстановкой".
Федотов - представитель не только
нового направления в русской живописи, но и нового сословия в русском обществе
- мещанства. Городской быт с его свободой и непосредственностью отношений
вырабатывал новый тип личности: бойкий, предприимчивый, способный отвоевать
себе "место под солнцем", не склонный к сословным предрассудкам, общительный,
обладающий тем характером самосознания, какой и поныне можно встретить в
русских городах. Из подобной среды впоследствии вышло немало русских
художников, в том числе и И.Н.Крамской. Не всё, разумеется, было там здоровым и
положительным, особенно к концу XIX в., но в первой его половине лучшие
моральные и духовные традиции русской интеллигенции безусловно принимались
выходцами из среды разночинцев и всем слоем русского мещанства.
Если говорить о том главном, что
определяло склад личности Федотова, то им следует назвать индивидуальное "я",
изживающее себя по преимуществу в душе рассудочной. Отсюда его познавательная
установка в творчестве. "Моего труда в мастерской, - говорил он, - только
десятая доля: главная моя работа на улицах и в чужих домах". И в то же время
его художественным кредо было: "... не подражать природе, если она не
представляет совершенства". Быть в гуще жизни, но не поглощаться ею, находить
наслаждение для души в том, чтобы "наблюдать - углубляться - подмечать законы
высшей премудрости" - в такой жизненной установке обнаруживается совершенно
автономное владение индивидуальным "я", изживающим себя в гармонии мысли и
чувства. И Федотов, действительно, обладал этой гармонией целостной личности,
которой так не хватало интеллигентным представителям его сословия в дальнейшем.
Среди объектов окружающего мира перед его пытливым духом вставал и мир
собственной души ощущающей. Ее опыт представал познающему "я" не в
отождествлении, а как бы восходя снизу вверх. Нужно хорошо почувствовать эту,
на первый взгляд, тонкую разницу между жизнью, протекающей непосредственно в
чувствах, и такой, где между чувством и "я", благодаря духовной деятельности
"я", успевает вклиниться процесс объективации чувства. Благодаря этому опыт
чувств нисколько не ослабляется, а лишь очищается от ненужных аффектов. В целом
подобная душевная констелляция может быть отнесена к аполлоническому типу.
Федотов - художник-мыслитель.
Карандаш и кисть для него, прежде средство познания, а не самовыражения. С их
помощью он подступает к жизни чувств, но не поглощается ею. Она - объект
познания наравне со всем другим. Однако о холодности чувств при этом не может
быть и речи. "Надобно, - говорит он, - хорошенько изломать свою поэтическую
натуру, чтобы сделаться художником", т.е. освободиться от бремени
преувеличенной субъективности, скажем мы. Такую задачу может поставить себе
лишь тот, кто в жизни чувств не теряет контроля над собой; а только тогда-то их
и можно познавать. Удивляются равнодушию Федотова к Гоголю, хотя видят много
общего в их творчестве. Дело же заключается в том, что к этому общему они идут
с противоположных сторон. У Федотова повсюду единство критического и
поэтического, его юмор никогда не переходит в безудержную сатиру или
карикатуру. У Гоголя поэтическое совершенно отсутствует в "Ревизоре", а в
"Мертвых душах" проявляется лишь в авторских отступлениях; сатира же как будто
вовсе лишена юмора. Говоря это, мы ни в коей мере не хотим принизить творчество
Гоголя. - Оно велико своей архетипичностью. Но в данном случае нас интересует
его глубинное отличие от творчества Федотова. У Федотова архетипические черты
отсутствуют. Взойти к архетипическому из всей полноты индивидуального - эту
задачу решало русское искусство второй половины XIX в.; и она остается
проблемой для текущего и последующих веков. Во времена Федотова самосознающая
личность еще только заявляла о себе на русской почве. В ряду предшествовавших
ему художников Федотов в творчестве наиболее индивидуален. Даже Брюллов,
стоящий значительно выше его по мастерству, в отношении истоков
творчества во многом выступал как инструмент высших инспираций, раскрывающих
архетипические черты души ощущающей. Задачи, решавшиеся Федотовым, Брюллов смог
поставить себе лишь в конце жизни, о чем свидетельствуют его римские сепии. В
них идеальное принесено в жертву характеристическому, которое уже не
обусловлено ничем, кроме индивидуальности самого художника.
Отличается Федотов и от Тропинина,
именно тем, что и Тропинин служит инструментом того высшего, которое
открывается в тайниках его души и подчиняет себе личность художника. Душа
рассудочная как архетип смотрит на мир глазами Тропинина. Быть инструментом в
руках высшего инспирирующего художественное творчество начала хочет и
Венецианов. Но он отступает от него (ибо меняются времена), и он оказывается,
что называется, "на мели" - отражает не архетип, а лишь его пустую материальную
оболочку. Почему столь неподвижен, статичен Венецианов? Именно потому, что в
нем иссяк источник сверхчувственных инспираций, а из личного он творить не мог.
Личное ему только мешало, потому из города он уехал в деревню. Однако и там его
надежды, что высшее все же заговорит через его кисть, не оправдались, и он
оказался перед материальностью, совершенно покинутой духом.
Венецианов поставил проблему
всецело индивидуального творчества, но не смог ее решить, поскольку для этого
ему самому нужно было стать другим человеком. Но проблема была актуальной
(потому от Венецианова осталась целая школа). Федотов для ее решения сделал
всего один, но самый необходимый шаг: он пришел к воплощению в себе, в своем
"я", архетипа души рассудочной, и уже не архетип, а художник Федотов с
самостоятельным "я" и душой рассудочной обратил свой взор на ту же самую
действительность, которая стояла перед глазами его предшественников. Результат
получился поразительный.
До Федотова, а также и в его
время, художник, служа высокому искусству, "священнодействовал". Живопись
служила выражением отблеска божественного мира в человеческом, потому все в
ней: цвет, линия, жест, поза - были, в известном смысле, священны; шутить с
этим было нельзя. Но Божественное низошло в земное, растворилось в многообразии
земного бытия. Подобно тому, как некогда Платон пережил в индивидуальных мыслях
мир мыслесуществ, так Федотов пережил вполне самостоятельно два первых элемента
души, которые прежде в своем космическом аспекте осеняли групповую душевность
земных людей. Не следует искать совершенно резких разграничении у этого процесса,
ибо он носит естественный характер. Но он именно таков, каким мы его описываем,
и только им обусловливаются этапы и направления всех видов творчества.
Художники XVIII и начала XIX века
в изображаемой ими натуре искали черты сверхличного и так познавали его в себе.
Самопознание Федотова сводится к наблюдению самовыражения индивидуальных душ.
Делают они это, прежде всего, не столько в слове, сколько в жесте, который
надлежит понимать не как телодвижение, а как некую эвритмию души, благодаря
которой тайное души становится явным (94-96). Это подобно лабораторному опыту, в котором
незыблемые законы природы приводят к самым причудливым сочетаниям.
Русская живопись входила в жанр
словно по тонкому льду, словно еще не веря, что можно "ходить по водам". А
обнаружив, что можно - испытывает озорную радость. Поэтому не случайно много
карикатур рисовал Венецианов. Правда, в живописи маслом (серьезном искусстве! )
шутить не решился. А Федотов решился. Но юмор для него не был самоцелью. Он
изучал феноменологию человеческой души в чувственном мире, полагая, что лишь в
действии можно уловить характер. Он говорил о портретах своих предшественников,
что они, за редкими исключениями, неверны, ибо "можно ли уловить душу человека,
пришедшего именно с той целью, чтобы с него писали портрет". - Можно, говорим
мы, если, глядя на модель, обращаться к своему внутреннему за ее разъяснением.
Тогда нашему духу из сверхчувственного, в ответ на восприятие, раскроется
стоящий за нею профеномен как тайна конкретной личности. Но если все искать
лишь во внешнем выражении, то Федотов, несомненно, прав, и понятна его
антипатия к писанию картин "из ума". Даже для своего "Сватовства майора" (97)
он все подобрал по частям из жизни. Позже, действуя в духе этой традиции,
Крамской в скульптуре прорабатывал этюды некоторых своих живописных образов;
другие моделировали архитектурные и прочие интерьеры, скупали антикварную
мебель, предметы быта, старое оружие и проч. Лишь из наблюдения чувственной
действительности, художественно организованной, стало возможно извлекать ее
идею.
В художественном развитии Федотова
видно не только совершенствование техники, но и изменение самого
художественного видения и всего содержания творчества. Его ранние работы
довольно сильно напоминают фотографии. Они натуралистичны, лишены
композиционной целостности. Например, его "Бивуак Павловского полка" и "Бивуак
Гренадерского полка" (98) - это как бы два моментальных снимка одного и того же
объекта, сделанных с разных точек. Но интересно, что даже эта "фотографичность"
Федотова значительно отличается от венециановской. Натура у него живая, как на
фотографии, хотя и лишена всякого художественного осмысления. Таковы же ранние
(часто групповые) портреты Федотова (99). Им до сих пор подражают в
соцреализме, особенно в последние годы, где это подчас подается как некая
утонченная форма психологизма. Но в действительности ничего этого нет ни у
нынешних "реалистов", ни у самого Федотова, хотя, глядя на лица полковых друзей
художника уже в наше время, можно подумать, что они погружены во внутреннюю
рефлексию. На самом же деле это просто констатация новой действительности,
увиденной целиком из чувственного мира. Подобный опыт был неожиданным и новым
во времена Федотова, потому его картины вызывали самый живой интерес.
Следующим шагом художника было
"познание человеческой души через жест и выражение художественных идей ...
видимыми формами" (А.Дружинин). Появляется большое число рисунков и целых
графических серий, посвященных "жестикуляции" души. Временами это небольшие
рисунки, временами - целые темы, перенасыщенные человеческими фигурами и разными предметами(94-96).
Художник лишь наблюдает коловращение жизни, даже не пытаясь внести в свои
работы какую-либо композиционную законченность. С равным интересом и симпатией
он изображает мимику, позы и все окружение, в котором они проявляются. Но
постепенно хаос упорядочивается, жестикуляция подчиняется единому источнику,
деятельности "я", и как бы сама формирует композицию. Таково первое живописное
полотно Федотова "Свежий кавалер" (100). Картина еще перегружена предметами, но
все они организованы в единую характеристику главного персонажа. Центр картины
образует орден, получение которого и было поводом вчерашней пирушки. Для героя
картины в этом ордене сосредоточено все значение его заурядной и бесшабашной
личности; и сообразно этой идее все и построено в картине: жесты "орденоносца",
служанки и вся предметная "жестикуляция". Подобную идею можно было бы описать
словами, тогда получился бы довольно большой и, возможно, скучный
нравоучительный рассказ. Если обратиться к жанру комедии, получилось бы живее,
но комедию нужно еще играть. На картине же все ясно с одного взгляда. Мы
взглянули на нее - и уже улыбаемся, мы поняли, что хотел сказать художник, хотя
это целый слой жизни, раскрытый не внешне, а по существу. Вот такое воздействие
живописи на душу зрителя, побуждающее ее живо и активно к размышлению, и стало
главным в русском искусстве, начиная с Федотова.
Творчество самого Федотова в
дальнейшем приобретает все более емкий, концентрированный характер, но при этом
почти всюду сохраняет мягкий юмор. Среди довольно малого числа написанных им
картин (и все они небольшого размера), самая значительная - "Сватовство майора"
(97). Тему картины образует целая гамма совершенно индивидуализированных
жестов, выражающих весь внутренний мир персонажей. В то же время, насколько
лаконичнее и, одновременно, выразительнее она по сравнению со "Свежим
кавалером". В "Завтраке аристократа" (101) часть темы вообще вынесена за рамки
картины и тем не менее присутствует в ней. Наибольшего лаконизма в
использовании внешних средств для характеристики образов Федотов достигает во
"Вдовушке" (102), и здесь же впервые он касается трагической стороны жизни. На
удивленное замечание одного из друзей, до чего же все просто на картине,
художник иронично возразил: "Будет просто, как переделаешь раз со сто".
Действительно, все художнические трудности автор настолько изъял из картины,
что мы их совсем не видим. Аксессуары выразительны и сведены до минимума.
Модель дана в статичной позе, но сколь красноречива она. Здесь мы наблюдаем
предел возможностей, которыми обладал Федотов. Совершенно отказаться от жеста,
от характеристики с помощью предметов он не мог. Потому малоговорящими являются
его портреты (103). Они индивидуальны, но не психологичны. Внутреннюю игру души
мог выразить художник уже иного духовного склада.
Необходимо еще отметить колорит
федотовских картин, по-брюлловски сочный, насыщенный, с контрастной игрой
светотени. По нему мы можем догадаться, что сверхчувственный опыт, хотя бы в
переживании цвета (а вероятно и жеста), все же не совсем отсутствовал у
Федотова.
По поводу ранней кончины
П.А.Федотова лично знавший его А.Дружинин в своих воспоминаниях восклицает:
"... художник подарил нас одними начинаниями. Еще бы год! еще бы хоть несколько
месяцев!" Однако это не совсем верно. Федотов вполне исполнил свою задачу:
открыл русской живописи врата в новую жизнь. Чего не сделал, да и не смог бы
сделать он, было впоследствии исполнено десятками других художников, первым в
ряду которых стоит В.Г.Перов (1834-1882).
Две черты особенно характерны для
личности этого художника. Одна роднит его с Федотовым. Перов смотрит на мир
целиком как индивидуальность, познает его и выражает на своих картинах. Вторая
его черта та, что, в отличие от Федотова, он непосредственно концентрируется и
на внутреннем мире души, он - "дионисиец". Для него душа ощущающая - объект
познания, данный изнутри, как опыт совершенно личных чувств и переживаний, с
которыми он целиком отождествлен. Вследствие этого дионисийское искусство
всегда драматичнее, чем аполлоническое, которому свойственны романтичность и
эпичность (много, разумеется, и других различий между ними). Из их же
совокупности рождается полнота художественной жизни. Поэтому Перов важен не
просто как интересный художник, но в полном смысле слова как создатель целого
художественного направления, образующего некую антитезу предшествующему этапу в
истории русской живописи. С Перовым в живописи впервые возникает духовное
направление, где художник приходит к творчеству от художественного осмысления
социальной жизни.
Появление Перова подготовлено
целым рядом его предшественников, куда, кроме Федотова и Венецианова, входит
еще не менее десятка интересных художников школы Венецианова. Но лишь Перов -
первый и наиболее чистый выразитель нового направления. Достаточно сравнить
Перова с Брюлловым, чтобы увидеть полярность двух художественных импульсов,
между которыми было поставлено русское общество: пышное торжество цвета - и
почти отказ от него; возвышенный идеализм - и печальная правда жизни;
романтическое, героическое прошлое - и трагическое настоящее, тревожное
предчувствие будущего. Так чисто художественными средствами ковалась русская
душа рассудочная с ее образным мышлением.
У Перова мы впервые встречаем
портреты с глубоко психологическим содержанием, на которых без внешней динамики
и аксессуаров раскрывается неповторимое внутреннее содержание портретируемого
лица. Им написан лучший портрет Достоевского (104), с творчеством которого
полотна художника имеют глубокое внутреннее родство. Все в портретном образе
Достоевского характеризует его как носителя индивидуального "я", немалой силы,
обретенной в тяжелых переживаниях и глубоких думах о них. Это главное свойство
писателя подчеркнуто скрещенной позой ног и сцепленными вокруг колена руками.
Если бы даже мы не знали, кто такой Достоевский, глядя на портрет, можно было
бы сказать, что это человек, глубоко озабоченный судьбами мира, поднявший свои
интересы до общечеловеческих, то есть истинный христианин.*
* Интересно этот портрет сравнить с картиной И.Н.Крамского
"Христос в пустыне" (132).
Совсем иное открывается нам в
портрете А.Н.Островского (105). Известный драматург всматривается в мир, где
живут персонажи его произведений. Он одновременно живет и вовне, и в себе. Оба
мира не приведены в нем к единству, потому одна рука опирается на колено -
писатель достаточно тверд в себе, другая лежит свободно - ее жест "диалогичен".
Вместе обе руки выражают связь писательского "я" с миром, носящую характер
беседы, из которой должно последовать решение: где же истинный человек, внутри
себя или во внешних своих проявлениях, а если и там, и там, то как это свести в
одно. Решить подобную проблему предлагается и зрителю.
В драматургии Островского имеются
и драмы, и комедии, написанные в равной мере талантливо. Это двойное видение
жизни было свойственно и Перову. По собственному опыту он хорошо знал печальную
сторону жизни. Будучи внебрачным сыном барона Г.К.Крюденера, он остался в
мещанском сословии, хотя отец в дальнейшем все же вступил с матерью в законный
брак. В студенческие годы он немало бедствовал, но при этом в окружающих людях встречал
много сочувствия и помощи. Особенно значительным было одно переживание. В ту
пору, когда его талант и призвание уже вполне определились (ему было 22 года),
он оказался в совершенно безвыходном материальном положении. Стало ясно, что
придется навсегда бросить любимое искусство и ехать куда-нибудь в провинцию на
должность школьного учителя рисования. Но совершается чудо. Его неожиданно
приглашает к себе один из преподавателей, Егор Яковлевич Васильев, и робко,
извиняясь и запинаясь, предлагает нищему студенту бесплатное жилье и стол.
Перов был глубоко потрясен этой скромной добротой и, надо сказать, сам всю
дальнейшую жизнь никогда не изменял этому качеству.
Но жизненные невзгоды не мешали
Перову видеть и веселую сторону жизни, чутьем же художника он чувствовал ее
особую роль в искусстве. Еще древние греки, создавая свои трагедии и комедии,
понимали их значение для индивидуализации и очищения астрального тела. С тех
пор трагическое и комическое в искусстве продолжают исполнять все ту же задачу.
О том, как это происходит, мы узнаем из духовнонаучных сообщений. В одной из
лекций Р.Штайнер говорит о способности человека, исходя из своего "я",
подниматься над самим собой. Это происходит в логическом мышлении, в моральном
суждении и, наконец, "я" творит выше себя, "когда развивает наслаждение и
неудовольствие, переживая прекрасное, возвышенное, юмористическое, комическое
...".93 Смеясь, мы возвышаемся над ситуацией, и это возможно лишь
при наличии "я". Мы возвышаемся благодаря осознанию собственной внутренней
ценности. "Нечто колоссально оздоравливающее заложено в буффонаде, шутках
кукольного театра и вплоть до комиков, изображающих всевозможные глупости,
бессмыслицы, ибо настоящий смех над глупостью выдает изверга, а не человека".94
(Но совсем иное дело - смех над глупостью конкретного человека). В
противоположность этому, сочувствие является внутренним душевным переживанием,
"... ибо печаль - это такое переживание души, благодаря которому наше "я"
чувствует себя по отношению к чему-либо, переживаемому вовне, более сильным,
чем в том случае, когда остается безучастным. Печаль всегда отражает внутреннее
повышение деятельности "я". По
этой причине гетевский Фауст, уже приготовившийся покончить с собой, погасить
свое "я", при звоне пасхальных колоколов восклицает: "Слеза кипит, я возвращен
земле!"
Итак, веселость означает
повышенную силу нашего "я" в понимании и познании окружающего нас мира. "В
смехе, - говорит Р.Штайнер, - наше "я" стягивается, укрепляет свою силу
настолько, что может легко разлиться над своим окружением". "Печаль, вызывая
сочувствие, укрепляет "я" в его внутренней деятельности". В то же время, если
она обращена не к жизни, а "... к художественному произведению ... то здоровым
образом мыслящий человек чувствует, что для полноты переживания ... печаль
должна быть преодолена".95 Поэтому трагический герой в смерти
переживает победу духа над телом. Изображение безысходного несчастья не
способствует развитию силы "я".
Таковы некоторые из главных
законов искусства. Зная их, мы легко поймем, что Федотов и Перов - это две
стороны единого целого. Но и в творчестве одного Перова юмор "Сельской
проповеди" (106) или "Охотников на привале" (107), где наивного "неофита"
потчуют охотничьими байками, сменяет трагизм "Тройки" (108), доведенный до
надрыва, за что современники упрекали художника в чрезмерном сгущении красок.
Имеются у Перова и картины,
скажем, среднего настроения, где человеческие чувства тихи и умеренны (109). Но
в целом его творчество по преимуществу трагического характера. Бедствия земного
бытия человека, вызванные грехом эгоизма (110), перерастают в большую
социальную драму (111) и даже приобретают вид безысходного горя (112).
Нарушение равновесия в творчестве не обошлось без личных последствий для
художника: в конце жизни Перов страдал нервным расстройством, испытывал
отвращение к своим картинам, пытался их переделывать, но оттого они становились
лишь хуже, а некоторые из них он, подобно Гоголю, уничтожил.
В живописи Перова обращает на себя
внимание колористическая бедность. Цвет на его картинах потушен до будничной
гаммы; да и сюжеты взяты, что называется, не на "солнечной стороне" жизни. В
Перове полностью угасают имагинативные переживания красок. От них остается лишь
рыжеватый отсвет, не объяснимый внешними задачами цветового решения перовских
тем. В то же время, Перов безупречно владеет рисунком. Его любимым занятием
была композиция. Он говорит, что в рисунке пытался воспроизводить всякую, даже
случайно пришедшую в голову мысль.
Этика творчества Перова, его
психологизм лишь изредка сентиментально назидательны, а чаще поднимаются до
уровня философских идей, продуманных в образах. О его картине "Никита
Пустосвят", посвященной теме церковного раскола, Н.С.Лесков в свое время
сказал: "Я гляжу на эту картину как на проникновение в самую задушевную суть
исторического момента, который она изображает". И далее писатель разворачивает
целую панораму причин, сути раскола, извлекая идеи из созерцания картины. Это
исключительно красноречивый пример. - Лесков был глубоким знатоком раскола,
потому что постоянно изучал его. У Перова этой теме посвящена всего одна
картина, и он работал над ней довольно короткое время. Чисто художественные принципы познания
позволили ему проникнуть в суть большой духовной и социальной проблемы.
Картины Перова и почти всех
реалистов XIX века легко трактовать идеологически, а в художниках видеть
обличителей общественного строя. Но если пойти этим путем, то нам придется
свести к нулю всю художественную ценность созданного ими. Ибо, если дело
заключалось только в критике и пропаганде, то было бы куда эффективнее (и
экономичнее в средствах) обратиться просто к плакату. Но творчество русских
художников - это не иллюстрации к прогрессивным идеям, а опыт самопознания,
приобретаемый ими через познание окружающего мира. К подобной же работе зовут
их произведения и нас. Художники проникали в гущу жизни, старались охватить все
ее стороны, а только так ее и можно познать. Однако при этом они оставались
художниками и только художниками. "Ведь я люблю его, - восклицает Н.И.Крамской,
говоря об искусстве, - ... больше партий, больше своего прихода, больше братьев
и сестер!"
В речи над могилой Перова
Д.В.Григорович сказал: "Перов есть настоящий представитель того рода живописи,
который теперь преследуют все русские художники". И действительно, в течение
второй половины XIX века стиль и художественное мышление Перова получают самое
многообразное продолжение и развитие. Возникают десятки имен, вошедшие в
историю русской живописи. Не остается буквально ни единого уголка русской
жизни, который не был бы продуман и представлен живописно.
Быт мещан и крестьянства, их
проблемы мы познаем на полотнах Г.Г.Мясоедова (1834-1911). Вот он показывает
нам представителей русской общины, сельского самоуправления (113). Никакими
словами не выразить то, что открывается здесь нашему непосредственному
созерцанию, а именно: вековечный дух русской социальности, пока еще смутно
дремлющей в подосновах единой души. Также и о его "Косцах" (189) можно сказать,
что вызываемое этой картиной переживание единства русского человека с землей не
заменить словесным, народоведческим или литературным описанием. В картине
решена почти импрессионистическая задача, но на уровне, если можно так
выразиться, природно-социальном.
Изучению самых разнообразных
социальных типов его времени посвятил свое творчество Н.А. Ярошенко
(1846-1898). Своеобразным эпиграфом к его произведениям может служить название
одной из его картин: "Всюду жизнь" (114). Смысл ее не экзистенциальный, а глубоко
моральный. Изображая самых простых людей: пролетариев, студентов, арестантов,
Ярошенко ставит в образной форме проблему самодовлеющей ценности
индивидуального человеческого бытия. В этом к нему особенно близко примыкает
В.Е.Маковский (1846-1920). Этого художника волновали и проблемы городской
цивилизации, дисгармонично вторгавшиеся в сельский уклад русской жизни (115), и
новые западные идеи, ведущие к расколу русскую интеллигенцию. Его картина
"Вечеринка" (116) в одной из рецензий была названа "Вечер у нигилистов". Но это
неверно. Художник не выносит в ней никаких суждений, а лишь выражает свой опыт
социального познания с помощью художественных средств. Картина писалась более
20 лет - столь продолжительными, а значит
глубокими были размышления автора.* И это обстоятельство говорит само за себя.
Если бы вся задача сводилась лишь к изображению "конспиративного собрания
революционно настроенной интеллигенции", как нас пытаются убедить, то для этого
было бы достаточно прочесть пару прокламаций или один раз такое собрание
посетить. Но картина явно не о том. В центре полотна мы видим девушку.
Несомненно, она сказала что-то смелое, может быть даже "нигилистическое", но
сколь различна реакция окружающих: одного, - юношу в косоворотке, ее слова
привели в восторг, но явно искусственный; он аплодирует с вызовом, ее слова для
него не новость, и не в них для него дело; двоим слева (они закуривают) до
всего этого как будто бы и дела нет, или они тоже все наперед знают; для иных
слова прозвучали как опасная бестактность, навели на мысль о том, что будет,
если подобными идеями зажгутся многие среди молодежи, и т.д.**
* На картине имеется авторская надпись: "Начато в 1875, написано в
1897".
** В образе романтической девушки изображена, как утверждают,
Софья Перовская, член террористической организации "Народная воля" (филиал
сербской организации "Народна отбрана") и непосредственная участница убийства
Александра II.
Нельзя не сказать несколько слов о
трогательной, полной мягкого юмора и печали картине Н. П. Богданова-Бельского (1868-1945)
"Устный счет" (117), изображающей, так сказать, самую непосредственную встречу
русской душевности со светом познания.*** Глядя на картину, невольно
задумываешься о системе Вальдорфской педагогики, с ее пластичной, не
погашающей, а широко раскрывающей душевные силы ребенка подачей учебных
предметов. Сколь велики могли бы быть ее плоды на русской почве!
*** Образ учителя интересно сравнить с седым стариком на
предыдущей картине. В их глубокой задумчивости есть много общего.
Несколько особняком в галерее
русской бытописательной живописи стоят два полотна: "Неравный брак" (118)
В.В.Пукирева (1832-1890) и "Княжна Тараканова" (119) К.Д.Флавицкого
(1830-1866). Оба художника, ничего существенного, кроме названных картин, не
создали, но благодаря им стали популярны и вошли в число значительных русских
жанристов. Картины имели большой успех у публики, о них писали в печати; "Княжну"
в 1867 году возили на Парижскую всемирную выставку; "Неравный брак" был
приобретен Третьяковым и выставлен в его галерее на обозрение широкой публики.
Говорят, что эта картина даже расстроила браки нескольких старых генералов с
молодыми девушками. Лесков иронически обыграл сюжет картины в романе "На
ножах".
О "Княжне Таракановой" Крамской
писал, что ей присущ "драматизм без ложного пафоса"; в то же время, та
историческая версия, которая положена в основу ее сюжета, казалось бы, совсем
мало содержит такого, что могло бы как-то особенно взволновать воображение
художника. Существует довольно туманный слух, будто княжна выдавала себя за
дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака с графом А.Г.Разумовским и
предъявляла права на трон. По приказу Екатерины II Орлов обманно привез ее из
Италии в Петербург, и там она утонула во время наводнения. По другой версии, ее
заключили в женский монастырь, где она и умерла. Но как бы там ни обстояло дело с историей,
мимо картины пройти нельзя, она вызывает волнение и вопросы, как и картина
Пукирева.
Перед нами два художника, явно
обладавшие дарованием. Оба прошли большую школу живописи. Флавицкий даже учился
в Италии. И возникает вопрос: если их хватило на один сюжет, то почему же в
остальном им отказала творческая фантазия? В 60-е годы, когда были написаны эти
картины, особенно интенсивно шел процесс пробуждения самосознания в России. И
вот создается впечатление, что тогда впервые из подоснов душ стало вставать
апокалиптическое предчувствие некоей беды, надвигающейся на Россию. У одних оно
могло оплотневать в образ потопа, наводнения, угрожающего самой сущности
русской души, оказавшейся в плену материальных условий и отмирающих импульсов
развития, у других возникал иной образ - некоего "престарелого джентльмена",
накладывающего свою длань на русскую душу, "юную невесту", истинный суженый
которой - тот молодой человек с лицом шиллеровского типа, который позади
невесты вместе со своим благородным другом трагически и беспомощно переживает
происходящее событие, в котором им обоим отведена роль шаферов. Утверждать
что-либо наверняка в подобных вещах, конечно, невозможно, потому мы закончим
вопросом: не явились ли оба наши художника инструментом в руках Души Народа,
инспирировавшей их живописные образы, в которых зримо дано то же самое, что
позже Достоевский выразил в слове, а Чайковский в звуках своей 6-й,
"Патетической" симфонии?* Если это так, то оправдан труд художника, создавшего
всего одно полотно.
* Это единственная в мировой музыке симфония, которая кончается
реквиемом. Дирижер Е.Светланов сказал о ней: "Кто в наше время поймет ее,
поймет очень много".
* * *
С конца 60-х годов возникает
русский пейзаж. И в этом нужно видеть существенную ступень беспрерывно
совершавшегося в русской жизни еще со времен древней Руси единого процесса
индивидуализации. Вначале, как мы уже говорили, он протекал в имагинативных
образах древней иконописи, затем на смену Божественным ликам пришла "парсуна" -
облик земного человека. В нем искали черты Божественного; все остальное в
чувственном мире пребывало на периферии сознания художника. Потребовался
значительный социальный опыт, чтобы художественно освоить феномен личности в ее
земных отношениях (жанр). Наконец индивидуальный дух овладел окружающей
природой, постигнув свою индивидуально-сущностную связь с нею.
Задачи пейзажной живописи разнятся
в зависимости от школ. Так, итальянский пейзаж эстетичен, романтичен - просто
рай земной; фламандский - обыгрывает сочетание эфирных сил, и т.д. Русский
пейзаж возникает как выражение русской географии, природы, как элемента русской
души. Природа различается не только по климатическим поясам, но и в зависимости
от национального склада живущего в ее среде народа. Меняется характер народа -
меняется и облик окружающей его естественной среды. Задача
пейзажиста - уловить тонкую связь
народной ауры с миром элементарных духов природы, обусловливающих ее настрой и
даже внешний характер. Отдельные опыты в таком переживании русской природы мы
встречаем у Венецианова и его учеников. Но одним из первых, вполне
самостоятельно и свободно выражающим себя пейзажистом является рано умерший
художник Ф.А.Васильев (1850-1873). Он осознает русскую природу на уровне души
ощущающей, и оттого она на его полотнах как-то по-особому поэтична, находит
мгновенный отклик в душе (190, 191). Глядя на пейзажи Васильева, понимаешь,
почему русский человек так глубоко связан со своей землей. Еще углубленнее
переживание родной природы русской душой ощущающей дано в пейзажах
А.К.Саврасова (1830-1897). Его картина "Грачи прилетели" (192) - это как будто
эмблема для чувств, какими русский человек в XIX веке был связан с природой.
Извне, с плана души рассудочной
пытается переживать природу И.И.Шишкин (1832-1898). В наиболее удачных работах
ему отчасти удается схватить тот ее дух, которым питается
философски-созерцательное настроение русской души (120, 121, 193).
Шишкин - своего рода "жанрист" в
пейзаже. Нужно почувствовать необыкновенную композиционную целостность и
гармоничность его картин, чтобы смочь их правильно оценить. Природа у Шишкина
не бередит чувство, от которого "кровь бродит" (Пушкин). Она ясна,
"последовательна", как ход человеческих мыслей. Но в этой ясности художник
довольно часто грешит натурализмом, почти фотографическим следованием
воспринимаемому, чем напоминает Венецианова. В этом сказывается опасный подвох,
который таит в себе для художника душа рассудочная. Поэтому не случайно на
протяжении многих десятилетий в соцреалистическом пейзаже за эталон было взято
творчество Шишкина, и художники до бесконечности перепевали его работы.
То настроение, которое природа
рождает в русском человеке, до выражения которого не смог дотянуться Шишкин, с
большой проникновенностью выразил поэт: Благословляю вас, леса, Долины, нивы,
горы, воды!
Благословляю я свободу
И голубые небеса!
И посох мой благословляю,
И эту
бедную суму,
И степь от краю и до краю,
И солнца свет, и ночи тьму,
И одинокую
тропинку,
По коей, нищий, я иду,
И в поле каждую былинку,
И в небе каждую
звезду!
О, если б мог всю жизнь смешать я,
Всю душу вместе с вами слить!
(А.К.Толстой. Поэма "Иоанн
Дамаскин").
Для современных Шишкину
пейзажистов его творчество послужило знаком того, что им следует подниматься в
своей душе куда-то выше и там искать способов выражения тайн природы, иначе их
ожидает материалистический тупик. И такие художники нашлись. Ими стали
А.И.Куинджи (1841 - 1910) и И.И.Левитан (1860-1900). Они открыли совершенно
новый период в пейзажной живописи, не получивший, однако, дальнейшего развития
в России. Созданное Куинджи и Левитаном роднит их с французскими
импрессионистами, в то же время, это совершенно русские художники. Можно
попробовать примерно так выразить тайну их творчества. Импрессионизм есть
порождение зрелого человеческого "я", способного оторваться от
непосредственного созерцания природы, воспарить над нею в едином, лишь
чувственно-художественном переживании и при этом не утратить себя. Подобной
способностью обладают и Левитан, и Куинджи; только при этом в их глубоко
индивидуализированную художественную интуицию вступает некоторое предчувствие
элементарных духов природы, благодаря чему их пейзажи не только вызывают
эстетическое переживание, но непосредственно обостряют в душе сопереживание
сверхчувственного в природе (194, 195, 196). Подобного рода переживание мы
получаем и от работ Саврасова, и даже в какой-то мере от Шишкина, но не трудно
почувствовать и разницу между всеми этими художниками. Саврасов (как и
Васильев) влечет нас к некоему отождествлению с настроением, выраженным в
пейзаже. Итог созерцания здесь - чувство. Шишкин оставляет нас более
свободными, у него мы получаем возможность соединить с чувством мысль; но этой
мысли грозит утрата связи с художественным. Куинджи и Левитан ослабляют
физический образ природы, освобождают нас от него и приподнимают над ним в
чисто эстетическом элементе. Правда, ими сделан в этом направлении всего один
шаг, но если искать где-либо его продолжение, то оно, скорее всего, присутствует
в опытах первых русских абстракционистов В.В.Кандинского (1866-1944) и К.С.
Малевича (1878-1935).
Своеобразным и в какой-то мере
неожиданным феноменом в русской живописи является И.К.Айвазовский (1817-1900),
художник-маринист. Глядя на его картины, получаешь впечатление, что человек
этот был, как говорится, "на ты" с элементарными духами воды, воздуха, света.
Чем иначе объяснить эту способность с рокотовским колоритом в бесконечном
многообразии, будто это живые существа, характеризовать волны, брызги, морскую
пену, облака, игру воды и света. Но, кроме того, произведения художника
обладают и философским смыслом, хотя вряд ли он вкладывал его в них
сознательно. Просто из его подсознания проступало ощущение, что под тонкой
пленкой чувственного бытия колышется безбрежный океан эфирноастральных сил,
способных, как бездна, поглотить человеческое бытие (122). Чувственная
достоверность материи - лишь иллюзия. В действительности бытие людей в
физическом мире подобно кораблю в бурном море (123). Если совместные усилия людей
в борьбе с этой подчувственной стихией окажутся недостаточными, то утлая шлюпка
станет уделом тех, кого на время пощадит провидение. Однако у них еще есть
надежда достичь некоей тверди бытия, к которой мостом перекинулась на картине
радуга. Но на что надеяться этим несчастным (197),
последней опорой которых остался обломок мачты в виде креста? С него свисает
обрывок веревочной лестницы ("лествицы") как воспоминание о том, что когда-то
по ней можно было восходить к небу, но сломался твердый стержень (мачта)
древней эзотерической традиции. Автору книги довелось слышать как одна женщина,
видевшая эту картину, сказала, что создается впечатление, будто в одеянии из
света, ярким пятном проступающего сквозь летучую дымку, к несчастным
приближается Христос, пребывающий ныне в мире эфирных сил Земли.
Таков в общих чертах характер
русской живописи в эпоху развития в России тройственной души. Заканчивая
рассмотрение этого этапа нам необходимо ответить на один вопрос, который,
возможно, уже напрашивается сам собой: достаточно ли у нас оснований
приписывать русской жанровой живописи самодовлеющую ценность, если вспомнить
тот колоссальный путь длиною в три столетия, которым прошел жанр в Европе?
Действительно, стоит взять лишь первые попавшиеся примеры, и можно воочию
убедиться, что ни в композиции, ни в бытописательности у русских художников нет
ничего такого, чего нельзя бы было найти на Западе. Вот XVII век: фламандец
Адриан Броувср (1606-1638) и голландец Г.Терборх (1617-1681). Незаурядное
мастерство здесь видно во всем: и в юморе, и в передаче жеста, и в знании быта
(124). Вот XVIII век: Пьетро Лонги (1702-1785) (125); из XIX века можно указать
на австрийского реалиста Ф.Вальдмюллера (1793-1865); художника Дюссельдорфской
школы К.В.Хюбнера (1814-1879) (126); еще вспоминаются крестьяне Жана Милле,
английские прерафаэлиты и т.д.
Что можно сказать, глядя на все
это? Во-первых, что если после голландских жанристов XVII века не возникает
сомнений в художественной ценности итальянского жанра XVIII века, французского,
немецкого, английского - XIX века, то тоже самое можно сказать и о развитии
жанровой живописи в России XIX века. Во-вторых, если не приписывать искусству
утилитарно-служебной роли, то оно, как выразитель становления личностного
начала, есть форма национального самопознания* и в этом качестве обладает
абсолютной ценностью для каждого народа, а в общечеловеческом плане, где народы
общаются посредством культур, оно - незаменимый помощник тем, кто в упорной и
несамолюбивой работе стремится развить в себе всечеловеческое начало.
В-третьих, русский реализм, в силу своей мистической природы, обладает
неповторимым своеобразием, которого мы не находим в искусстве других народов.
* Если бы у
искусства была служебная роль, оно давно повсеместно слилось бы в одну серую
массу утилитаризма, но причине одной только унификации идей в идеологии.
Овладение многими представителями
русской интеллигенции индивидуальным я-сознанием в тройственной душе образовало
совершенно новый род их связи с Душой Народа. Индивидуализированное творчество
породило на сверхчувственном плане мощный противообраз земных отношений; внизу же отдельные инспирации Души
Народа, стоящие в тесной связи с этим противообразом, соткали в общей панораме
культуры некое зеркало, отразившее, а тем самым и объективировавшее все сферы
земного бытия. Прежде русская душа пребывала в непрерывной слитности с
жизненным процессом. Теперь эта связь становилась все более опосредованной.
Живопись (эффективнее, чем развитие идей) образовала дистанцию между душой и
бытием и тем создала поле для размышления о жизни.* В результате этого к 70-м,
80-м годам в России вырастает напряженный поиск путей, по которым могло бы идти
дальнейшее национальное развитие. Возникают идеи, будто историческим процессом
можно манипулировать по личному произволу (Михайловский), поскольку объективно
уже никто больше не переживал духовного водительства. Крепнет впечатление, что
судьбы народа действительно находятся в его собственных руках. В то же время,
повсеместно обнаруживается зыбкость индивидуальных духовных основ русской
личности, ибо слишком короток был период их формирования. Россия явно не
поспевала за Европой и при этом теряла понимание своего национального пути. Мы
показали отчасти, как это обстояло на плане идей. Тот же процесс совершался и в
искусстве.
* Произведения русских художников быстро становились известными
почти всей России благодаря постоянно возобновлявшимся выставкам,
перемещавшимся из города в город. По инициативе Перова, Мясоедова, Крамского и
др. художники объединились в товарищество "Передвижников". Они и были
организаторами этих выставок. С другой стороны, выдающийся филантроп
П.И.Третьяков покупал все значительное, что выходило из под кисти художников, и
вывешивал в учрежденной им публичной галерее. Благодаря ему почти вся русская
художественная школа собрана в одном месте. И это исключительно важно. Ибо ее
нужно смотреть всю сразу, как едино изучается курс истории или философии.
Бытописательная живопись
постепенно мельчала в показе бесконечных частностей жизни. Но одновременно
своими поисками она как бы формировала некий силовой центр. Выразителем того,
что слагалось в нем, стал художник И.Н.Крамской (1837-1887). Он дал целостный
образ того феномена, отдельные грани (лики) которого живописали многочисленные
жанристы. Этим феноменом было человеческое "я". Подобно Кипренскому, Крамской
является художником индивидуального "я". Но, сравнивая обоих художников между
собой, мы видим, сколь значительную эволюцию в короткий срок прошло я-сознание
в среде русского образованного общества. Кипренский предощущал феномен
человеческого "я", но не находил достаточно ярких его обладателей. У Крамского
каждый портретный образ - законченная и неповторимая индивидуальность, но зато
увиденная лишь психологически. Вспомним Рембрандта, в творениях которого
феномен "я", одновременно, и сущностей, и индивидуально психологичен. И можно
сказать, что Кипренский еще не дотягивается до такого выражения "я", а Крамской
"перескакивает" на другую от него сторону: всецело в чувственный мир, но уж
оттуда дает образ индивидуального "я" в полную силу.
В творчестве Крамского портреты
занимают главное место, в то же время, их, как сказал Репин, "... нет
возможности приурочить к какому-нибудь жанру; они остаются сами по себе".
Художник видит свою цель в том, чтобы, как он говорит, "...
охватить человека как большую задачу", а далее: "поставить перед лицом людей
зеркало, от которого бы сердце забило тревогу ...". И действительно в портреты
Крамского можно "смотреться"; в них познание зрителя восходит до самопознания.
Моделью Крамскому служат люди из самых различных сословий. Это может быть и Лев
Толстой (127), и известный артист (128), и простой крестьянин (129).
Характеристики Крамского никогда не повторяются. Он верен психологическому
облику портретируемого и оттуда черпает тему портретной композиции. О Толстом
он говорит, что увидел в нем "редкое явление: развитие, культуру и цельный
характер, без рефлексов". И потому портрет его предельно лаконичен по форме.
Какими внешними жестами, аксессуарами можно выразить цельную личность? Другое
дело - артист. Его "я" везде и нигде: в артистических приемах, манере, костюме
и проч. Портрет же крестьянина - это скорее жанровая картина, все ее элементы
выражающие индивидуальное в изображенном мужичке, неразрывно слиты с ним.
Своеобразие Крамского состоит в
том, что он ничего не берет себе "в помощь" (в отличие от Федотова), а дает
только то, что естественно проистекает из изображенной личности. И потому
портрет перерастает в композицию. Композиционен портрет Толстого, ибо незримо
его окружает целый мир дум и образов писателя, без которых его "я" немыслимо; с
другой стороны, портретна композиция "Неутешное горе" (130). Нужно увидеть
отличие сложной обстановки этой картины, например, от таковой же у Федотова в
его "Вдовушке" (102). Картина Крамского совершенно не "литературна" и не
аллегорична; она дана восприятию разом, как реальная встреча с чьим-то горем в
жизни, когда оно предстает не познанию, а непосредственному сопереживанию. Круг
предметов, среди которых живет человек, один и тот же и в горе, и в радости, но
можно почувствовать, как бытие человеческого "я" в разных ситуациях наполняет
их разным содержанием. В доме, где случилась беда, все приобретает печальный
вид. Нам, может быть, возразят, что на картине все-таки даны и траурные цветы,
и венок, но имеется один ее вариант, где ничего этого нет, но оттого горе
становится совершенно беспросветным, а картина теряет художественную ценность
(131). Из сравнения варианта с законченной картиной можно увидеть, сколь
безошибочен был художественный вкус у Крамского. Тема страдания для него - лишь
повод "подсмотреть" внутреннюю природу "я" в условиях, скажем, экстремальных. И
он правильно чувствует, что чрезмерное горе надламывает "я", несомое же с
достоинством - усиливает. Постижение одного только этого феномена достаточно,
чтобы вполне естественно и единственно правильным образом возникла композиция.
Для понимания творчества Крамского
интересно познакомиться с ним как с личностью. Это был образованный, мыслящий
человек, обладавший большим внутренним тактом, чувством достоинства не столько
собственного, сколько человека вообще. И все это он выработал в себе сам.
Родился он в пригородной слободе города Острожска Воронежской губернии. Мать
его была из казачек, отец - из бедных местных мещан. "Никогда и ни от кого, - вспоминал впоследствии художник,
- ... я не получил ни копейки ... учился и всегда жил только на то, что мог
заработать". Но с ранних лет в нем проявилась незаурядная сила личности.
Благодаря ей он закончил Академию Художеств, объединил вокруг себя в дружеской
общине товарищей, помогая им зарабатывать на жизнь и при этом не изменять серьезному
творчеству. Своим отказом (с группой в 13 человек) от участия в академическом
конкурсе на золотую медаль, Крамской нанес непоправимый урон старому, уже
изжившему себя академическому направлению. Без активного участия Крамского
трудно представить себе существование Товарищества передвижников. И вообще
творческая индивидуальность художника неотделима от общественной. "Если вы
хотите служить обществу, - говорил он, - вы должны знать и понимать его во всех
интересах, во всех проявлениях, а для этого вы должны быть самым образованным
человеком". И Крамской не только много учился сам, но учиться начинали все, кто
вступал в его окружение. В его жизни все было организованным, осмысленным и
человечным. Что говорилось им вслух, было весомо и оказывало на окружающих
благотворное действие.* Знать об этом интересно еще и по той причине, что в
силу врожденного склада души Крамской был человеком внутреннего пути,
"меланхолического характера", как говорил он сам. И если бы он так основательно
не организовал себя, то ему бы не миновать драмы на своем жизненном пути,
прервавшемся внезапной кончиной на пятидесятом году.
* Во время похорон И.Н.Крамского, когда лад его могилой
закладывали склеп, многочисленная толпа безмолвно и неподвижно простояла в
течение целого часа.
Решая проблему человека "как
большую задачу", Крамской, естественно, не мог не думать о Том, Кто воплотил в
Себе всю полноту человеческого. Он понимал, что, как ни значительна внешняя
работа мира в формировании индивидуального начала в человеке, она же грозит ему
гибелью. "Смешно и больно, - писал он в 1877 году, - взирать на мир Божий!
Всюду трибуны, всюду с одушевленным взором, с раздутой истинами грудью
возвышаются ораторы - великие люди, друзья человечества; всюду ликование!
Просветленные толпы волнами движутся от паровых машин ... к митральезам ...".
Художник понимал, что выхода из возникающего лабиринта не найти, если бытие
личности не озарится светом высшей "духовной жизни", "Божественными идеями";
если человеческое "я" не найдет связи со своим Богом, со Христом. Много и
мучительно искал Крамской способа выразить образ Христа. Дело дошло даже до
сверхчувственного переживания. В письме А.Д.Чиркову (от 27 декабря 1873 г.) он
писал: "Я видел эту странную фигуру, следил за нею, видел как живую, и однажды
я вдруг почти наткнулся на нее: она именно так сидела, сложивши руки, опустивши
голову. Он меня не заметил, и я тихонько, на цыпочках удалился, чтобы не мешать,
и затем уж я не мог забыть ее. ... Христос перенес центр Божества извне в самое
средоточие человеческого духа ...". Это переживание и легло в основу его
картины "Христос в пустыне" (132), но удовлетворен ею Крамской не был, ибо
слишком ясно сознавал всю огромность стоявшей перед ним задачи. Своему юному
другу, художнику Ф.А.Васильеву, он признавался (в письме от 10 октября 1872
г.): "... могу ли я написать Христа? Нет ... не могу и не мог написать, а
все-таки писал ... совершил, быть может, профанацию, но не мог не писать ... не
мог я обойтись без этого. Я могу сказать, что писал его слезами и кровью ... Я
написал своего собственного Христа, только мне принадлежащего, и насколько я,
единица, представляю из себя тип человека, настолько, стало быть, там и есть -
ни больше, ни меньше". Но то, что художник по великой скромности считал
недостатком своего творения, было его силой. Христос Крамского - это Сын
Человеческий, или Всечеловек. Его надлежит понять индивидуальному духу
нынешнего, будущих веков, тогда в Сыне Человеческом откроется Сын Божий, Бог
человеческой индивидуальности.
Импульс Христа можно было
постигать и в прошлом, на менее индивидуальной основе, с помощью
художественного переживания сверхчувственных инспираций, как это имело место у
А.Иванова. Но по-иному встает задача во времена Крамского. Всечеловек рождается
в земном человеке как душа сознательная, благодаря возвышению личных интересов
до интересов всего человечества. Это-то и выразил Крамской в своем образе
Христа: кто способен так, как Он, думать о человечестве, на того нисходит
Самодух. Его низшая, земная природа, просветляясь, уподобляется Святой Чаше, и
тогда Сам Христос удостаивает его высшего, совершаемого "в духе и истине"
Причастия.
Как живописец человеческого "я",
Крамской всецело основывался на внутреннем опыте, при котором он "вслушивался"
в изображаемую натуру вплоть до ее сущностного центра. Все его портретные
образы несут на себе печать некоей таинственности. Их характеры, углубляясь,
сходятся как бы в одну точку и там делаются неуловимыми. В образе Христа этот
неуловимый центр всецело обращен вовнутрь и теряется где-то там, в глубинах
микрокосма, но так, что мы имеем впечатление: в своем внутреннем Христос
объемлет весь мир. Человеческую попытку следовать в мистическом самоуглублении
за Христом Крамской выразил в картине "Созерцатель" (1876, Киев, Музей
изобразительных искусств). В убогом одеянии на лесной тропинке фигура медленно
идущего припорошенного снегом странника. Он всецело погружен во внутреннее
ясновидческое переживание, и его широко открытые глаза не видят ничего вовне.
Однако его видение, можно сказать, принципиально отличается от видения Христа,
ибо "созерцатель" совершенно утратил в нем себя. Образ такого рода -
единственный в творчестве Крамского. Остальные его персонажи полны внутренней
силы. Из ее загадочного центра раскрытие образа то, ширясь, идет вовне (128,
129), то останавливается на границе двух миров - внутреннего и внешнего; таковы
портреты "Полесовщика" (лесника) (1874, Третьяковская галерея), Вл. Соловьева
(1885, Русский музей) и др.; наконец, на многих портретах, например Толстого
(127) или М.С.Салтыкова-Щедрина (1879, Третьяковская галерея), человеческое
"я", идя изнутри, достигает границы чувственного мира и вновь как бы отражается
вовнутрь.
В своем обобщенном, скажем,
"явлении для мира" неуловимый феномен человеческого "я" дан Крамским в образе
"Неизвестной" (198). Здесь мы имеем переживание "я" в некоем отвлечении от
конкретных носителей - как того загадочного центра нашей
личности, который ни на единый миг не дано зафиксировать ни во времени, ни в
пространстве. "Неизвестная" - это своего рода русский аналог леонардовской Моны
Лизы. Глядя на нее, можно лишь сказать: вот такое оно, русское "я". Можно много
его описывать, все равно не опишешь; лучше один раз увидеть.
Крамской выразил некое итоговое
состояние русского индивидуального духа, начало развитию которого было положено
крещением Киевской Руси. А далее от художников требовалось не только дать
зримый образ того, что сокровенно ткется за покровом чувственного мира, но и
совместно с другими искать уже нового отношения к духу, к ноуменальному миру
истории, дабы из него почерпнуть целеполагающие идеи или образы для грядущего
национального развития. В этом, на наш взгляд, следует искать причину того, что
во второй половине XIX века возникают художники, в творчестве которых
доминирует или вообще является единственной лишь одна тема. Мы не имеем в виду
пейзажистов* или художников академической школы, где непосредственно одних
специализировали на исторической живописи, других посылали в натурный класс и
т.д. Нет, речь идет о художниках из группы передвижников, о жанристах, которые
в силу лишь им ведомых причин избирали для себя в искусстве одну тему. Начнем с
Верещагина (1842-1904). Это по преимуществу художник-баталист. Подобно
Крамскому, он ищет новые грани человеческого "я", дабы познать его. В условиях
войны человек пребывает на грани между жизнью и смертью, и тогда переживание им
своей самости обостряется до предела (133). Опыт подобного рода, возможно, даже
импонировал самому художнику (он погиб на броненосце "Петропавловск" в
Порт-Артуре). Крамской же писал о нем А.С. Суворину (12 декабря 1885 г.):
"Вообразите себе только такого человека, который не чувствует потребности в
ком-либо из людей вообще! ... Божество ли свободное или демон?"**
* За исключением И.К.Айвазовского. Его мы бы отнесли к кругу
обсуждаемых нами далее художников по причинам, которых мы еще коснемся.
** Портрет Верещагина кисти Крамского (1883 г.) хранится в
Третьяковской галерее.
Но более важной является другая
сторона творчества Верещагина. Мы ранее уже немало говорили о том, что с
определенного момента Душа Народа сплетает цели его развития из единичных
целеполаганий, встающих в индивидуальном духе, и затем инспирирует ими духовные
центры людей. О том, что происходит в душах художников, начиная с 70-х - 80-х
годов, условно можно было бы сказать так. Они как бы говорили себе (при этом не
важно, насколько ясно это входило в их сознание): цель развития состоит в
овладении индивидуальным "я"; в соответствии с этим складывается наше земное
бытие. Исследуя его в разных аспектах, в прошлом и настоящем, можно почерпнуть
идеи и относительно будущего. Например, война - она немало послужила индивидуализации
греков, романтики воспевали смерть на войне в противовес смерти в постели.
Конечно, война несет страдания, но зато на ней не уснешь, платить же приходится
за все, в том числе и за пробуждение "я". И вот Верещагин исследует войну, что
называется, вдоль и поперек. Вслед за ним идет русская публика. Ее взору
открываются ликование и слава победителей,
муки умирающих, трупы. Не следует слишком легко говорить всему этому нет.
Вспомним, в чем признается себе князь Болконский в "Войне и мире": "Смерть,
раны, потеря семьи ... ничто мне не страшно, и как ни дороги, ни милы мне
многие люди, отец, сестра, жена - самые дорогие мне люди, но как ни страшно и
неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества
над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю и не буду знать ..." Да,
человеку нужно хорошо проверить себя, чтобы решительно стать на сторону мирной
эволюции. Верещагин приводит к этому решению, давая почти сюрреалистический
образ "Апофеоза войны" (134). В нем - вся иллюзорность, ошибочность военного
пути, особенно в условиях не древнего, а современного мира. Мы не знаем, каковы
были взгляды на войну у самого художника, да это и не важно. Он был верен
законам творчества, и Душа Народа через него сформулировала в образной форме этот
окончательный вывод.
Творчество художника В.М.Максимова
(1844-1911) всецело посвящено изображению народного быта. Он и сам происходил
из крестьян - его отец был государственным крепостным в Новгородской губернии.
Родители много трудились, но успевали с любовью и заботой ходить за детьми. С
10 лет мальчик стал посещать монастырскую школу, потом, чтобы доучиться, совсем
перешел на житье в монастырь, где встретил сердечного и образованного
иеромонаха Антония Бочкова. С его помощью Максимов приобщился к Гоголю, Пушкину
и даже Плутарху. Потом был Петербург, иконописная школа. Там пришлось хлебнуть
немало горя. Однако подросток оказался крепок - сумел в конце концов выдержать
экзамены по всем предметам и был принят в Академию. В дальнейшем, как и в
детстве, жизнь берегла художника: он женился на дочери генерала. Любовь была
взаимная, глубокая и на всю жизнь.
Репин о творчестве Максимова
сказал: "Картины его можно назвать перлом народного творчества по характерности
и чисто русскому миросозерцанию. ... пройдут века, а эти простые картины только
чем-то сделаются свежее и ближе зрителю будущих времен. А чем? Это совсем не
загадка и не таинственный символ, - это самая простая русская вечная правда.
Она светит из невычурных картин Максимова: из каждого лица, типа, жеста, из
каждого местечка его бедных обстановок, бедной жизни". Этим сказано все.
Художники типа Максимова стоят под инспирацией Души Народа. Через них она
высветляет самый широкий народный пласт, крестьянство, хранителя грядущего
предназначения России* (135, 136).
* По окончании Академии Максимов отказался от стажировки за
границей, считая это совершенно не нужным для себя.
Вероятно, наиболее трудным путем
поиска смысла бытия прошел Н.Н.Ге (1831-1894). Основная тема его творчества -
евангельская. "Пытался я, - говорит он, - взять просто человека - человека того
или другого: я увидел, что это мелочь. Кто же из живых, живущих людей может
быть всем, полным идеалом?" Таким образом, вопрос, к которому другие приходили
в итоге своего творчества или касались его лишь слегка, Ге сделал для себя
исходным. Такое намерение, само по себе, вполне правомерно, тем более что тема Христа была главной
почти во всей русской литературе. Однако тут имеется и различие. Одно дело
описывать поиски Христа человеческой душой, и совсем другое - дать Его зримый
образ. Перов, например, настолько ясно почувствовал всю трудность этой
проблемы, что вообще считал невозможным живописать лик Христа, и мы не видим
его на двух перовских картинах: "Снятие с креста" и "Гефсимания". Крамской
однажды на такой шаг решился, но мы видели, чего это ему стоило. Был у него и
другой замысел - изобразить сцену осмеяния Христа ("Радуйся, Царь Иудейский!",
1877-1882, Русский музей). Несколько лет мучился он над нею, намереваясь,
подобно А.Иванову, сделать ее главной в своей жизни. Но сначала не было
подходящей мастерской (картина была задумана в огромных размерах), потом
мастерская нашлась, однако дело так и не пошло дальше общего наброска с
более-менее тщательной прописью лишь отдельных мест. Глядя на этот эскиз, мы
можем понять, почему художник не смог осуществить своего замысла. Дело в том,
что доходящая до мистического углубления верность объекту созерцания, которая
была свойственна творческой манере русских художников, приводила их к
самоотождествлению с изображаемым объектом. В том случае, когда художник шел
верхним путем, то есть укреплялся своим "я" в душе рассудочной и оттуда (сверху
вниз) переживал свою душу ощущающую как объект, познавательно (Брюллов,
Федотов; Пушкин и Одоевский в литературе), - жизнь его чувств оставалась под
контролем, а в творчестве выступала очищенной и просветленной. Вообще говоря,
на этом пути можно впасть в сухой рационализм, в филистерство, но русским это
никогда особенно не угрожало. Для них большую опасность представляет
противоположное настроение, где они могут потерять себя в стихии чувств. Из
художников это особенно относится к тем, кто шел нижним путем, то есть
погружался своим "я" в душу ощущающую и оттуда пытался подниматься вверх, к
душе рассудочной и сознательной. В этом случае отождествление с объектом
творчества часто оказывалось непереносимым для творца (драма Лермонтова,
Гоголя). И можно себе представить, что переживал такой художник, берясь за
евангельскую тему.* В ней он соприкасался со столь мощной реальностью, что
вынести ее можно лишь при большой степени очищения астрального тела. Искушения,
которые переживал Христос, говорил Крамской юному Репину, подступают к каждому
из нас. И это действительно так. Поэтому евангельская тема в мистическом
реализме принимает почти посвятительный характер и таит в себе все опасности
эзотерического, а не просто культурно-исторического пути. Об этом хорошо знали
древние иконописцы.
* В Ренессансе христологическая тема почти целиком решена на
"верхнем" пути. Частичные исключения мы находим у маньеристов, в немецком
возрождении (Грюневальд); Леонардо шел двумя путями сразу.
Создавая "Христа в пустыне",
Крамской собрал все силы своего духа и вышел из испытания благополучно. Но если
бы он на много лет погрузился в свой второй замысел, то нельзя поручиться, что
дело для него не кончилось бы душевной катастрофой, о чем можно косвенно судить
по опыту Ге.
Ге по внутреннему складу души
принадлежал к тому же типу, что и Крамской. Но, кроме того, его всю жизнь
сопровождали визионарные видения. Ему открывался мир жизненных сил, а также
стихия "пламени вожделений". Особенно хорошо это видно по портретам (199, 201).
Следует обратить внимание на то, как художник изображает глаза, их блеск, на
цвет, где преобладают желто-коричневые, розоватые, иногда с легкой синевой,
золотистые и густо-золотые тона. Все это придает портретам Ге (а также и
картинам) какую-то повышенную жизненность, а их психологизм скорее выражает не
личностное начало, а игру стихийных сил души, не подвластных я-сознанию. Когда
смотришь на картину Ге "Петр I допрашивает царевича Алексея" (137), то невольно
вспоминаешь портреты А.П.Антропова, ибо вновь видишь образы, охарактеризованные
мерой наличия в них жизненных сил.
Обращение к евангельской теме
носило у Ге специфический характер и определялось внутренним складом самого
художника. С раннего детства в нем развилось обостренное переживание
человеческой несправедливости. Его отец был довольно жестоким крепостником,* и
Ге приходилось быть свидетелем расправы над крепостными; не щадили даже горячо
любимой ребенком няни. Зато все женщины в доме отличались добротой,
религиозностью, особенно бабушка. Довольно бесцеремонные нравы в обращении с
учениками застал Ге и в Киевской гимназии. По выходе из нее, вспоминал он, "...
я сознавал всю несправедливость угнетения моей личности, и потому считал себя
обязанным никогда и никого не угнетать.** Высокий нравственный идеализм стал
определяющим в жизни Ге. Поступив в Академию, он сделался центром группы
наиболее бедных студентов. Не раз случалось, что к нему в студию забегал кто-то
из приятелей, надевал его приличную одежду и отправлялся по какому-нибудь
важному делу, потом возвращался, вешал ее на крючок, но тут являлся другой,
кому она была тоже нужна. Сам хозяин стоял все это время в белье у мольберта и
спокойно рисовал, а если являлся посетитель, то он накидывал на себя простыню
либо одеяло.
* Прадед Ге был французский офицер, который женился на украинке и
поселился в Малороссии.
** Надо сказать, что когда изучаешь биографии самых разных
представителей русской интеллигенции, то в большинстве случаев обнаруживаешь
огромную и даже определяющую роль в их воззрении собственного жизненного опыта.
Первой картиной Ге на евангельскую
тему была "Тайная вечеря" (200). В картине, как и в портретах, поражает
ощущение художником стихии эфирных сил. Что же касается ее замысла, то о нем
сам художник сказал так: Иуда не мог понять Христа, так как "вообще
материалисты не могут понять идеалистов". В этом высказывании - весь Ге с его
стремлением подчинить искусство идее.
Публика и критика плохо приняли
картину. В ней видели принижение образа Христа, сведение величайшего Его деяния
к обыденности. Выручил художника Александр II. Он купил картину за 10 тысяч рублей
(цена по тем временам очень высокая) и подарил ее музею Академии художеств.
Затем в жизни Ге наступил кризис.
Следует заметить, что становление его личности вообще шло драматично и неровно.
Так, в юности он пришел к атеизму, сблизился с Герценом.
Чтение Евангелий обратило его ко Христу, но постепенно он стал утрачивать
понимание окружающей жизни; ее прагматизм травмировал его тонко чувствующую
душу. Не видя никакого смысла в петербургской жизни, он уединился на своем
украинском хуторе и отказался от живописи. Так протекло немало лет. Снова
вернул Ге к жизни Л.Н. Толстой. Ге принимает его учение, сам становится
толстовцем, переходит на вегетарианство, опрощается, кладет соседям печи и от
скептицизма обращается к горячей, настойчивой религиозной проповеди.
Т.Л.Толстая в одном из писем писала: "... пути, по которым шла душевная работа
Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом
направлении".
Ге опять берется за живопись и
ставит себе задачу проиллюстрировать все евангельские события. Но перед нами
теперь совсем другой человек. "Я сотрясу их (современников) мозги страданиями
Христа! - восклицает он, - ... они надолго забудут о своих глупых интересах!" В
подходе к пониманию Христа Ге всецело разделяет трагическое заблуждение Льва
Толстого. "Ни за что не поверю, - пишет Толстой художнику, - что Он воскрес в
теле, но никогда не потеряю веры, что Он воскреснет в своем учении" (письмо от
6 марта 1884 г.). Ге пытается это убеждение проиллюстрировать. Появляются такие
картины, как "Что есть истина?" (138). "Суд синедриона, повинен смерти" (1892,
Третьяковская галерея). Публика была ими шокирована. Критик Н.П.Грот писал: он
"... намеренно отнял у величайшего из мировых событий его божественность".
Художника обвиняли в том, что в его картинах видны его собственные воззрения, и
потому спор о них идет вовсе не художественный. Даже Толстой, всецело
одобрявший эксперименты Ге, все-таки просил его в "Суде синедриона" переписать
Христа, "сделать его с простым, добрым лицом и с выражением страдания".
Что фактически сделал Ге в этих
двух картинах и в последующих, посвященных Голгофе? Он изменил искусству,
превратил его в инструмент своего проповедничества. Жена одного из его сыновей,
Е.И.Ге, писала, что он "не любил находиться у своей работы на поводу. ... Он
упрямо направлял свое задание по определенному руслу, безжалостно кромсая,
ломая, всячески выкраивая, переделывая, видоизменяя как мысль, так и форму". Но
что значит "идти на поводу" у искусства? Ведь это не что иное, как не совсем
удачно выраженный принцип следования законам искусства. Художник должен быть
верен не себе, а изображаемому объекту, из него черпать форму, средства
выражения, а главное - не рисовать того, что известно заранее.
Ге нет дела ни до чего, кроме его
собственных убеждений, - ни до законов искусства, ни до исторической, ни до
религиозной стороны дела. Несостоятельность художественного метода Ге со всей
наглядностью проявилась в его картине "Пушкин и Пущин в селе Михайловском"
(139). Это картина, которую мы сейчас смело могли бы назвать соцреалистической,
проходной иллюстрацией к современному школьному курсу о Пушкине, в котором
поэта трактуют как предтечу соцреализма. И встает вопрос: как мог религиозный
до мозга костей художник создать подобное? А дело заключается в шаткости
русской души, когда она покидает почву реализма и односторонне отдается идеализму. Тогда ни в чем
она не знает меры, а точнее, становится жертвой и люциферического, и
ариманического искушения.
Исторического Христа на Западе
обмыслили реалистическим умом Д.Штраус и Ренан. И это было лишь следствием
продолжительного процесса поглощения Христианства материалистической культурой.
Но когда в России за это взялись Толстой и Ге, то возник парадокс, в который
даже трудно поверить. Два не просто религиозных человека, а чуть ли не пророка,
с непомерной энергией ниспровергают то, что дало смысл всему земному бытию, -
Воскресение Христа в теле, и хотят всех убедить, будто достаточно верить в
Учителя и его учение.
Толстой был крепкой
индивидуальностью. Ге не мог в этом сравняться с ним, и по нему мы видим, что
возникает в действительности от подобной установки души. Теряя связь с истинным
Христом, душа, идущая внутренним, мистическим путем, захватывается духом
материи, Ариманом; она тогда чувствует саму себя распинаемой на кресте материи.
Боль и ужас охватывают ее, ибо она переживает свою Голгофу без всякой надежды
на Воскресение. Это свое состояние и выплеснул наружу Ге в неоконченной
"Голгофе" (140) и двух "Распятиях" (141, 142). О "Голгофе" он писал Толстому:
картина - "начало, предчувствие наступающего страдания. Ничего другого не могу
ни чувствовать, ни понимать" (письмо от 28 февраля 1884 г.). Все в этих словах
субъективно и относится к собственным страданиям художника; до остального ему
нет дела. Еще в начале, когда он так "по-своему" трактовал "Тайную вечерю", в
нем не было сомнений в правильности именно его понимания Евангелий ("вообще
материалисты не могут понять идеалистов"), а 20 лет спустя он писал Толстому,
что благодаря его учению превратился из язычника в христианина. Не следует ли
отсюда, что "Тайная вечеря" была написана язычником? Не было у Ге сомнений и в
конце жизни, когда он попрал все эстетические и художественные принципы
искусства.
Вызывает отталкивающее впечатление
даже процесс работы Ге над "Распятиями". В мастерской он воздвигает настоящий
крест, к нему на скрученных полотенцах подвешивается живой натурщик
(родственник), у того, естественно, сводит суставы, а художник жадно ловит
момент страдания. Но при этом еще остается "техническая" проблема: как
провисеть в распятом положении несколько часов кряду? И вдруг Толстой сообщает
в письме, что у одного шведского художника распятые стоят на земле. Это как
громом поражает Ге. - Открытие! И вот тема возобновляется (142), однако эта
"простота" решения уже приближается к изуверству. Художник же не ведает о том,
что выходит наружу из его подсознания. Он уверен, что проповедует любовь. Когда
картину увидел президент Академии Художеств великий князь Владимир
Александрович, то отвернулся от нее и произнес: "Это бойня". И он был, конечно,
прав.
Ге сильно волновался, когда эту
вторую "Голгофу" пришел смотреть Толстой, даже не мог находиться рядом и вышел
в другую комнату. Толстой долго оставался возле картины, потом подошел к
художнику, "протянул к нему руки, и они бросились друг другу в объятья.
Послышались тихие, сдержанные рыдания" (Воспоминания
П.И.Бирюковой). Слившись в братском объятии, два гения забыли только об одном,
что на них смотрит вся Россия в ожидании решения своей судьбы - идти ли ей
путем этой Голгофы или искать другой.
Вспомним образ лодки на картине
Айвазовского (123). Она несется с остатками экипажа по волнам разбушевавшихся
стихий в надежде достичь вожделенной тверди. В душе Ге, образно говоря, она
этой тверди достигает, чтобы вдребезги разбиться о гранитный утес. От ужаса
этой боли стенает и мечется душа художника. И тем не менее, трагический опыт Ге
глубоко поучителен. Он говорит о том, что национальная жизнь России подобна
плавучему острову Астерии, на котором родился древний Аполлон. Ей опасно терять
мачты и паруса и, одновременно, слишком приближаться к "тверди"
материалистической культуры. Ей нужно жить с нею, но не в ней, всячески
укрепляя то, что остается в "плавучем состоянии". И никто не минует трагедии,
если не пожелает соединиться с материей, преодолевая ее единственно возможным
способом - с помощью Сына Божия, соединившегося как Сын Человеческий с
материальной Землей, прошедшего через смерть в материи и воскресшего в вечном
физическом теле - в Духочеловеке.*
* Последний искатель русской общины Н.Ф. Федоров писал о том, что
Христос воскрес одновременно и имманентно, и трансцендентно. 96
С совершенно новым типом личности
художника мы встречаемся, обращаясь к В.М.Васнецову (1848-1926) и В.И.Сурикову
(1848-1916). Оба они сибиряки, первый - из Вятки, сын сельского священника,
второй из Красноярска, "природный казак", как он говорил о себе; оба закончили
Академию. Тема Сурикова - русская история времен Московской монархии. Васнецов
в своем творчестве слил воедино русские сказки, былины и древнюю историю.
Обоих мастеров отличает какое-то
не свойственное другим художникам XIX века немногословие, молчаливая
сосредоточенность на своем искусстве и даже некоторая отчужденность по
отношению к окружающему миру. Брюллов, Крамской, Ге, Репин и десятки других,
подобных им, художников были людьми большой общественной активности,
мыслителями, моралистами, жизнелюбами, поэтами, литераторами, критиками.
Васнецов и Суриков, по сравнению с ними, - молчальники. И дело здесь не в темах
их творчества, взятых из прошлого - это такое прошлое, которым люди живы и по
сей день, - а в том, что русское искусство, много учась у Запада, постепенно
начало обретать свое лицо не только в темах, но и в своих носителях. В личности
художника начинает проступать единая душа, дремлющая в народной основе.
Художник, будучи выходцем из народа, делается не разночинцем, то есть не
человеком, утратившим от соприкосновения с просвещением целостность своей души
и оттого обреченным на муку раздвоения личности, а столь же равновесным и
самодостаточным творцом, как и представители дворянской интеллигенции - Пушкин,
Одоевский, Гончаров. Новые художники особенно близки к ранним славянофилам. Им
чужды душевные метания, жизнь обладает для них априорной целесообразностью, но
поскольку язык их творений целиком образный, то "свет познания" в их единой
душе не поднимается до общественно значимого, впечатляющего слова. Ранние
славянофилы были философы, социологи, поэты, но от западников их отличала
сдержанность во внешних проявлениях, в публицистике. Для них характерны лишь
отдельные, хотя яркие, а порою и необыкновенно проницательные вспышки
самосознания. Как бы некий невидимый центр постоянно сдерживает поднимающиеся
волны их душевной жизни. Более всего они озабочены гармонией своего душевного
состояния, когда мысль не теряет равновесия, чувство не получает субъективной
обостренности. Все это мы наблюдаем и в новых художниках, за исключением той
весьма значительной роли, которую ранние славянофилы играли в общественной
жизни.
Связь с единой душой позволяла им
проникать с помощью творчества вплоть до сверхчувственных ее истоков. Но при
столкновении с идеями окружающего мира они часто оказывались беспомощны. И
тогда возникало нечто, подобное тому, с чем мы встретились в творчестве Ге,
когда законченный идеалист рисует не менее материалистически законченное полотно
(139). Также и у Васнецова наравне с утонченными до имагинативности образами
сказок возникает "Каменный век" (143) - вульгарно материалистическая
иллюстрация дарвинизма, на которой потом было воспитано несколько поколений.* У
каждого из нас, если даже мы очень мало сохранили в памяти от школьных лет, эта
картина, исполненная в виде фрески в московском Историческом музее, стоит в
сознании всю жизнь.** Но такая работа у Васнецова лишь одна. Многие даже не
знают, что это его произведение. Известен он другим, прежде всего - "Тремя
богатырями" (202). Картина в настоящее время, как говорится, "заезжена",
подобно старому кинофильму. Бесчисленные копии и репродукции, подаваемые с
фальшивым комментарием, всем "намозолили" глаза (вместе с "Рожью" и "Медведями"
Шишкина), и уже никто не способен найти к ней живого отношения. Но она его
вполне заслуживает. Мы уже говорили об этом в третьем очерке. Это не просто
патриотическая картина, а образ тройственной души, коренящейся в подосновах
души единой. Она, как профеномен, стоит за феноменологией той части русской
культуры, где проявились внутренние искания фаустовской души. Васнецов дал
русскому обществу зримый образ этого профеномена. Если это понять, то следует
счесть за благо широкую известность картины.
* Мы говорим о двух художниках, но вслед за ними возникла целая
плеяда подобных им. Что у Васнецова мы встречаем как отдельный пример,
превратилось в трагедию всей жизни у другого талантливого художника
М.В.Нестерова (1862-1942). В его ранних полотнах встает, явно не без
имагинативного опыта, спиритуальная история России, ее старцы, посвященные,
например, Сергий Радонежский (144). Впоследствии, обратясь к материализму,
художник потерпел полный творческий крах.
** Интересно, что сразу после этой картины он обратился к росписи
Владимирского собора в Киеве.
В картине "Иван царевич на сером
волке" (145) мы единым взглядом схватываем саму суть русской истории в аспекте
всенародного посвятительного пути. Единое "я", Иван-царевич, ищет и находит
свою небесную невесту - Самодух. Ее нужно выкрасть из царства, где господствует
Кащей Бессмертный, или Ариман. Помогает Ивану в этом деле его эго (волк). Нужно
лишь уметь направить его на доброе дело, и тогда оно не враг, а помощник.
Сама единая русская душа, которая
еще грезит и пробудится только в шестой культуре, изображена Васнецовым в его
"Аленушке" (146).
Можно иметь разные мнения о
мастерстве Васнецова-рисовальщика, о декоративности его картин, об их красках,
нередко сумрачных и даже грязноватых, но бесспорной останется его заслуга в
том, что он воскресил спиритуальную основу русской жизни, которую еще только
предстоит соединить с идеалами христианского посвящения. Нетрудно на основе
картин Васнецова пытаться гальванизировать ложный дух славянского язычества. Но
чего не могут извратить в наше время? Художник же не имеет к этому никакого
отношения. Он лишь раскрывал то, что восходило в его душе из инспираций Души
Народа, прислушиваясь к ним на тот народный манер, когда таинственными рунами звучит
сама земля.
Новые художники, о которых мы
теперь говорим, были чрезвычайно тесно связаны с русской землей. Уже Перов,
уехав по окончании Академии на стажировку за границу, выдержал только два года
и запросился обратно, обнаружив, что вне России он ничего не способен создать.
Максимов вообще отказался от стажировки, поняв заранее, что она ему ничего не
даст. Так своеобразно выражается начальный этап становления русской
художественной школы. Некогда она обретет достаточно сил и способностей, чтобы
мочь также и отрываться от родной почвы, подниматься до уровня общечеловеческих
идеалов и интересов.
На следующей ступени этого нового
выражения русской индивидуальности можно было бы представить себе людей, в
которых были бы воедино слиты, скажем, Васнецов и Хомяков, Суриков и Самарин. О
дальнейшем мечтать не будем. Пока же слабость русской школы вполне
простительна, и ее лишь нужно понять, а не принимать за силу и не кичиться ею,
ибо кичиться слабостью глупо и опасно. Об этом говорит нам тот же Васнецов
образом "Витязя на распутье" (147). Понуро смотрит он на письмена посвящения,
грозные знаки окружают его. Пути назад нет, а впереди трудные испытания и
роковые опасности. Последние лучи заходящего солнца, светившего в древнем
посвящении, освещают мрачный ландшафт, и "сквозь туман кремнистый путь лежит
...".
Картины В. И. Сурикова делают нас
как бы соучастниками наиболее важных моментов русской истории, благодаря
обостренному почти до видения чувству истории самим художником. Одна из тем его
главных полотен - стрелецкий бунт против Петра I (148). Художник не поучает, не
делает выводов. Он предлагает сделать их нам самим, беря на себя лишь задачу
показа. Красная площадь - центр России. Тут вся народная жизнь. Нововведения
Петра вонзились в нее, словно кинжал. Справа стоят иностранные дипломаты: изучают, познают. Что
для них только идеи, на Руси обращается потоками крови. - Так, примерно, можем
думать мы, глядя на картину. И исключительно важно, что она пробуждает мысли,
много мыслей, и таких, которые нужны и для настоящего, и на будущее. А чтобы
мимо этих мыслей не проходили, у картины огромные размеры.
На другой картине перед нами драма
русской религиозности - раскол (149). И опять мысли, мысли. Словно разделяя
надвое русское общество, движутся сани с мятежной боярыней. Слева стоят
материалисты. Они смеются, им все равно - двумя иль тремя перстами творить
крестное знамение, или не творить его совсем. Справа - те, кому не безразличны
судьбы России. Задумавшийся странник образует центр всей группы в правом углу.
Он представитель единой души, что шествует из прошлого в будущее. Он мыслит
хоть и не быстро, но мудро, и он уже совсем близок к интеллигенции. Женские
образы - это душа ощущающая. Ее совсем юный аспект - возбужденные юноши у стены
храма. Справа на переднем плане, подобно следу от фанатизма боярыни, остается
Русь убогая и юродствующая. Со смыслом дана на картине каждая фигура. В своей
же совокупности они рождают целую философию русской жизни, пестрой и
противоречивой, где идеальное всегда угрожает потерять связь с реальным и
улететь в фанатичном аскетизме лишь к воображаемым небесам. Материальное же
склонно обернуться цинизмом. Словно струна натянута между насмехающимися не то
боярами, не то купцами и сидящим на снегу юродивым. Не по этой ли струне
двигался художник Н.Н.Ге, печальный прообраз для многих русских?
В некотором роде "генералистом"
предстает в истории русской живописи И.Е.Репин (1844-1930), последний русский
художник-"аполлонист". Его родиной был городок Чугуевка в Харьковской губернии,
а происходил он из казацкой семьи военного поселенца. Подобно Крамскому, всем,
чего достиг Репин в жизни, он был обязан лишь самому себе. Интересно
сопоставить этих двух людей. В жизни Репин - ученик Крамского, в творчестве - противоположность.
Если отвлечься от внешней формы их творчества и взять саму, так сказать,
характерологическую основу, из которой оно проистекало, то Крамского и Репина
можно уподобить Чаадаеву и Одоевскому. Художники представляют собой две вершины
в русской живописи. При этом первый проник глубже всех в духовную тайну
личности, второй - совершенно в духе гетеанистической эстетики дал великолепные
образцы творчества, основанного на созерцающей силе суждения.
Репин соединил в себе буквально
все, что по отдельности возникало у русских художников до него: дар жанриста и
портретиста, мастерство рисовальщика и колориста, академизм и пленэр.
Творчеством своим он как бы произвел общий смотр всему, чего достигла русская
живопись, но это был не механический процесс повторения, а самый подлинный
синтез, верный до конца законам
чистого искусства. Искусствоведение преподносит Репина чуть ли не как
социал-демократа, который помышлял только о критике существующего режима. В
канонизированном виде многие приемы его творчества были впоследствии положены в
основу служебной живописи, но это не более, чем посмертная маска с умершего
гения. Что это обстоит именно так, раз и навсегда решает высказанное самим
Репиным понимание целей искусства. "Воскресить верно целую картину жизни, -
говорит он, - с ее смыслом, с живыми типами ... тоже задача огромная. Угадать и
воспроизвести идеал, который грезится разумному большинству людей, живущих
своими эстетическими и этическими потребностями высшего порядка! " (выделено
нами. - Авт.).
Репин был
страстным приверженцем чистого искусства, за что В.В.Стасов публично называл
его "ренегатом" и "вероотступником". Но одно дело - чего хотели от Репина
культуроведы-сектанты,* и другое - чего хотел он сам. Идейное искусство он
рассматривал как величайший грех, в какой только может впасть художник, ибо
искусство совершенно самодостаточно и не нуждается ни в каких посторонних
заимствованиях. Чем более художник верен его законам, тем выше его творение.
Замыкание в абстрактный эстетизм, введение неких формальных принципов в
искусство он также переживал как фальшь и временами обрушивался на это без
всяких церемоний.
* В.В. Стасов - это довольно
одиозная фигура в русской критике. Н.Н.Ге говорил о нем, что он не любил
искусства. И тем не менее он всю жизнь настойчиво утверждал себя в роли
законодателя художественных вкусов.
Русской культуре
как-то особенно не повезло с критикой. Художникам и писателям пришлось
потратить немало сил в борьбе с нею за свое творчество. "Позором русской
литературы" считал ее Одоевский и противопоставлял ей благодетельную критику,
"которую некогда установил в Германии Лессинг, которая очистила дорогу для
Шиллера и Гете ..." Позже Достоевский, отвечая на идеологические притязания
Добролюбова, дал отповедь всей линии
Белинского-Чернышевского-Добролюбова-Стасова. "Вы не отвергаете
художественности, - писал он, - но требуете, чтобы художник говорил о деле,
служил общей пользе, был верен современной действительности, ее идеалам.
Желание прекрасное. Но такое желание, переходящее в требование, по-нашему есть
непонимание основных законов искусства и его главной сущности - свободы
вдохновения. Это значит просто не признавать искусства как органического
целого". Вы думаете, продолжает Достоевский, "что им можно помыкать по
произволу, что оно может идти по дороге, по которой захотят критики".
Это ведь
поразительно, когда критика обращает свои призывы быть "верными
действительности" к представителям русского реализма! Но так и обнаруживается
ее фальшь, которая заключается в том, что для критики важна была верность не
действительности, а взглядам смотрящих на нее критиков, часто субъективным,
абстрактным и всегда односторонним.**
** Это, естественно, относится как к критике "слева", так и к
критике "справа".
Репин был верен
традиционным принципам русского искусства в лучшем смысле слова, т.е. для него
реализм не имел ничего общего с материализмом, а познание жизни
- с идеологией. Даже его скептическое отношение к церкви - не от безверия, а от
повышенной серьезности в подходе к вопросу веры. Не повторением всуе Имени
Божьего определяется христианин, а осуществлением Его дела на земле. Но чем
иным, как не служением Ему является то искусство, которое ищет способов
выразить этические и эстетические идеалы "высшего порядка", которыми живет
"разумное большинство"? Верность объекту творчества поднималась в Репине до
любви к нему, что соответствует уже оккультно-религиозной задаче. Рассказывают,
что во время написания того или иного портрета чувство благожелательности у
Репина к портретируемому буквально удесятерялось. При этом не имел никакого
значения социальный статус данного лица. В бурлаке Канине, прототипе главного
персонажа его картины "Бурлаки на Волге" (1873, Русский музей. СПб.), он видел
что-то от греческого философа и говорил о нем: "Мне казался он величайшей
загадкой, и я так полюбил его". Не потому ли, глядя на портреты Репина, можно
подумать, что их прототипы были близкими друзьями художника. Чтобы убедиться в
этом, достаточно рассмотреть портреты Льва Толстого (150), небезызвестной
"красной" баронессы Икскюль, изображенной с замысловатым головным убором,
напоминающим, одновременно, и фригийский колпак, и пентаграмму (151), простого
мужика "с дурным глазом" (152), писателя Леонида Андреева - человека с
необычайно сложным миром души (153).
Быть "верным"
объекту не означает, что художник в своем творчестве руководствуется лишь
чувством, а не мыслью, как ошибочно считает Э.Грабарь, говоря о Репине. Речь в
данном случае идет о способе познания. Чтобы почерпнуть идею из объекта,
необходимо на время устранить себя и стать одним с ним. Этим приемом сплошь и
рядом пользовался Гете. Но в сфере живописи глаз у Репина был еще более цепкий,
чем у Гете. Это и понятно, ведь ему надлежало передавать идею не литературно и
не естественнонаучно, а зримо. Однако в самой манере глядеть на мир у нашего
художника много общего с великим поэтом и естествоиспытателем. Репинский глаз
видит не просто металл, шелк, бархат, а саму твердость и мягкость предметов. И
в то же время, это взгляд человека, познающего мир и стоящего несколько над
миром. Он не поглощен, не подавлен миром, и потому столь ясен его взгляд на
него.
В репинском жанре
все темы глобальны. В них он предстает нам как художник-философ, мыслящий одними
только образами, чистый художник. Возьмем одну из наиболее значительных его
картин, "Крестный ход в Курской губернии" (203). Создаваемое ею общее
впечатление таково, что художник-импрессионист мог бы назвать ее "Движением".
Действительно, в картине движутся фигуры людей пеших и конных, больных и
здоровых, знатных и бедных, движется само русское общество с его противоречиями
и диссонансами. Впереди шествует группа крестьян, они несут чудотворную икону.
Эти люди находятся вне окружающей их социальности, в духе; они несут в себе
единую душу. Их движение особое, не историческое. Остальные участники процессии
даны в их отношении к этой главной теме. Их совокупность столь же
противоречива, как жизнь; в них - вся истории России в некоем ее итоге. Что
может проистекать из этого для будущего России? Этот вопрос картина рождает в
нас. Отношение к Христианству дано на картине двойственно. Одно дело святыня и
другое - ее официальные представители и охранители. Для них, мы знаем, люди с
серьезным отношением к вере, и притом думающие, такие как Вл.Соловьев, Толстой,
Достоевский, Перов (а на Западе Гете) и подобные им, всегда представляли
опасность.
Репина, несомненно, глубоко
волновал нараставший в России социальный антагонизм. Он видел его
многочисленные лики и стремился с помощью кисти распознать саму суть его,
потому столь "итоговый" характер носит "Крестный ход". Но художник брал и более
частные аспекты этой проблемы. Вот "Арест пропагандиста" (154). Образы сыщиков
явно не симпатичны, но таковы они всегда и повсюду, что же касается самого
пропагандиста, то взятая им на себя работа оказалась ему явно не по плечу, она
вконец истощила его нервы и сделала из него вместо служителя идеи ее фанатика.
Теперь он попадет в тюрьму. Но если представить себе его самого на месте его
судий, то, можно не сомневаться, раздастся уже знакомое: "как не резать, если
оно может быть полезным". Крестьянам - они стоят слева у окна - одинаково чужды
и полицейские, и сыщики, и сам пропагандист. Так это изображено на картине.
Может быть, кто-то усмотрит в нашем изложении предвзятость. Но на это мы можем
сказать, что вполне разделяем мнение Р.Штайнера о том, что "русскость", как
таковая, всегда испытывала потребность отчуждиться от царизма. При этом нас еще
занимает реальное положение вещей, мы стремимся видеть на картине то, что
изобразил художник, а не то, что кто-то хочет в ней видеть, и то же самое
советуем сделать читателю. Для этого возьмем на пробу еще одну картину Репина
"Не ждали" (155). Мы видим на ней интеллигентную семью скромного достатка:
дети-гимназисты делают уроки, дочь постарше сидит за роялем и т.д. Неожиданно
появляется долго отсутствовавший член семьи. Следует думать, что он, скорее
всего, был в заключении, но может быть это и не так. И уж совсем большой
натяжкой будет решить однозначно, что он был осужден за революционную
деятельность; а именно этот взгляд и навязывают зрителям искусствоведы,
школьникам - учителя. Непосредственно из картины это не видно. Нельзя также
сказать, кто здесь кого осуждает или одобряет. В семье идет размеренная жизнь,
пришедший явно выпал из нее. Но почему его не ждали, по моральным или
политическим соображениям - это каждый волен решать сам. Куда несомненнее из
созерцания встает библейский образ блудного сына, перенесенный в новую
социальность. А тогда художник подводит нас своей картиной к проблеме
становления индивидуальности, образующей первоисточник социального движения, и
в таком случае картина заключает в себе глубокий религиозно-философский смысл.
Обращался Репин и к исторической
тематике. Там его "осязающее" художественное восприятие обжег ужас Московской
теократии, то оставшееся от восточной деспотии монголо-татар жало, которое, как
у скорпиона, обратилось против себя же. Момент русской истории, выбранный
Репиным для картины "Иван Грозный убивает своего сына" (156), действительно важный. Кто знает, как сложилась
бы судьба России, если бы вместо богоумильного, но чуждого земле Федора
Иоанновича, которого сменил Борис Годунов, Ивану IV наследовал бы его сын Иван.
Но в картине заключен и глубокий моральный смысл. Крамской сказал о ней, что
всякий, видевший ее со вниманием хотя бы раз, "навсегда застрахован от
разнузданности зверя, который, говорят, в нем сидит". Это, несомненно, так,
если иметь в виду морально здорового человека. Но когда картину увидел один
студент с расстроенными нервами, то кинулся на нее с ножом. Позже М.Волошин
обвинил из-за нее Репина в нарушении художественных и эстетических законов
творчества. Может быть, в Волошине кой критике и есть доля правды. Но не
следует забывать, что подобного рода опыт у Репина встречается единожды. Нет
оснований абсолютизировать картину чуть ли не до некоего принципа в искусстве.
Художник просто на момент соединился в своем "созерцании" с определенным фактом
русского прошлого и затем поделился с современниками тем ужасом, который при
этом пережил. Но в картине содержится и иное. Она как бы говорит нам: не ищите
решения нынешних проблем в старом монархическом прошлом с его восточной
деспотией.
Творчество Репина не мыслимо как
целое без гомерического хохота запорожской вольницы (204)., Вот она, душа
ощущающая на свободе! Ныне никто уже не скажет, что могло бы выйти, если бы
направить ее к целесообразному развитию. Сокрушение московским царем вольного
Новгорода, чьих наследников мы видим на картине, исключило из русской истории
эту альтернативу.
Таково в кратких чертах творчество
Репина, наиболее разностороннего из русских художников. Обращает на себя
внимание отношение самого художника к своему творчеству. Оно было устойчиво
негативным. "Трудолюбивая посредственность, - говорил он о себе, - много
натворившая ошибок". И это не было кокетством капризного гения. Бесконечным
доделкам и переделкам Репин подвергал свои картины до тех пор, пока они совсем
не уходили из его рук, но даже и тогда он порой стремился еще что-то с ними
сделать. Однажды он проник, в отсутствие хозяина, в галерею П.М.Третьякова и
перерисовал лицо главного персонажа картины "Не ждали". Между владельцем
картины и ее создателем возникли осложнения. Сошлись на том, что Репин все же
упросил дать ему картину еще на некоторое время и продолжил работу над ней.
Мы поймем недовольство Репина
собой, если еще раз вспомним, что он сам говорил о цели своего творчества:
"Угадать и воспроизвести идеал." На пути к нему необходимо "воскресить верно
целую картину жизни с ее смыслом". Над этой задачей фактически работали все
русские жанристы, передвижники. И стало необходимо, чтобы кто-то, наконец, свел
это воедино и положил в основу решение следующей задачи: воспроизведения идеала
"высшего порядка". Эту задачу искали все: живописцы с помощью одних средств,
литераторы - других, музыканты - третьих, религиозные философы - четвертых.
Исходя из него, надлежало познать дальнейшую цель общественного и духовного
развития народа, ибо высшее предопределение его судеб, духовное водительство
перешло на физический план, к людям. Но русский дух к такому
синтетическому суждению прийти не смог. Здесь сказался недостаток
интеллектуальных сил. Недостаточно сильной, плодотворной, устойчивой оказалась
почва индивидуального начала. Весь исторический опыт России подводил ее к
осуществлению социальной трехчленности. Древние истоки русской общины с ее
естественным убеждением, что для учреждения совместной жизни на земле не
требуется особой верховной власти, - они пробились в век просвещения, идея
"общего дела" владела умами "разумного большинства" людей во всех слоях
общества. Но когда в мир пришли антропософские идеи о трехчленности, то
воспринимать их, а тем более соединять с русской жизнью оказалось почти некому.
В то же время, лишь Духовная наука была способна дать решающее звено последнего
синтеза, к которому с таким напряжением сил шло образное мышление русских
художников и писателей, религиозно-философское мышление ранних славянофилов и
таких умов, как Владимир Соловьев, Лев Толстой. Антропософия была как-то
трагически непонята теми кругами интеллигенции, которые в начале нового века
имели общественный вес, к которым прислушивались и за которыми шла вся
образованная Россия. Более того, они обратились к ее критике, что составляет
одну из наиболее печальных страниц в истории русской интеллигенции. Как
парадокс звучат ее сетования вроде тех, что мы встречаем, например, у Сергея
Булгакова. "Было ли замечено, - с упреком восклицает он, - грандиозное явление
мистической литературы - "Рукописи" А.Н.Шмидт, в которых дан, может быть, ключ
к новейшим событиям мировой истории? Какая беспомощность в вопросах оккультизма
и вообще антропологии!" ("На пиру богов", 1918 г.). И это говорит человек,
знавший о деятельности Р.Штайнера, читавший его книги и лекции! Уму
непостижимо, какая психологическая загадка, какой психологический сдвиг сделал
возможным для определенной части русских интеллигентов гневно бичевать своих
современников за "оккультную беспомощность", а самим при этом набрасываться с
совершенно безграмотной и недобросовестной критикой на чистейший из когда-либо
открывавшихся человечеству источник оккультных знаний. Это действительно трудно
понять, как смогли люди, высоко моральные в жизни, в своих писаниях позволить
себе так недобросовестно отнестись к Антропософии. Все их обвинения в ее адрес
основываются на ими самими же измышленных ее грехах. Но мы не станем входить в
детали этого странного феномена. Всякий может сам, познакомившись с основными
сочинениями Р.Штайнера и его русских критиков, убедиться, что последние
основаны на прямом искажении духовно-научных сообщений. Р.Штайнера обвиняют в
том, чего он попросту никогда не говорил и не писал, и обвиняют нередко с
большим ожесточением и даже фанатизмом.
Были, конечно, в России круги,
которые пытались влить в русскую культуру духовнонаучные импульсы, но их сил
оказалось недостаточно.*
* Репин также пришел к Антропософии, но уже в конце жизни.
Оставляем на совести К.Чуковского его заявление о том, будто Репину навязывали
Антропософию, а сам он относился к ней неприязненно. Будь это правдой, то и
речи бы не шло о связи Репина с Антропософией, ибо никому и нигде она себя
никогда не навязывала. Скорее всего, в своих воспоминаниях о Репине Чуковский
выразил собственное отношение к Антропософии. Только стоило ли при этом бросать
тень на художника. Проще было бы сделать это от себя, подобно С.Булгакову и др.
В то же время, в России шли и иные
процессы. Тот тонкий слой самосознания, который образовался в послепетровскую
эпоху, на протяжении примерно полутораста лет, оказался не более, чем слоем
пепла на раскаленной стихии "пламени вожделений". Растущее самосознание
ослабило силу .инстинктов, что стерегли эту стихию в подсознательных глубинах,
а само оказалось не в состоянии эффективно сдерживать ее. Были, конечно, в
среде интеллигенции и люди сильные духом, но куда больше было тех, кто пробудил
в себе интеллект лишь в степени, достаточной для того, чтобы открыть им врата
хаосу стихий. Огромную роль в этом сыграло перемещение центра духовной жизни во
влажную среду приморского города Петербурга. Мы уже говорили о том, что
подобная среда способствует преждевременному пробуждению переживаний Самодуха.
И вот в русской духовной культуре возникает феномен, напоминающий "безумие"
поэтов позднего эллинизма. В среде русской интеллигенции окончательно
возобладал дионисийский тип души. Вместо того, чтобы в единстве эстетических и
этических принципов укреплять "я" в душе рассудочной и оттуда, с одной стороны,
восходить к душе сознательной через возвышение личного начала, а с другой -
импульсами души сознательной просветлять, облагораживать душу ощущающую,
интеллигенция подпала трагическому раздвоению личности. Восставший древний
Митра попытался осуществить дело непозволительное - "взлететь" вверх с быка
телесности, вместо того, чтобы мечом сознания обуздывать плоть. В результате
снизу в эту телесность с еще большей силой впился скорпион сексуальности.
Начался декаданс русской интеллигенции. Процесс этот был далеко не
скоропостижным. Еще Герцен в томлении духа восклицает: "... тело мешает.
Простор, простор, и я переполню все беспредельное пространство одной любовью.
Прочь тело!" (Письмо к Захарьиной от 17 июня 1837 г.). А в начале XX столетия
Д.С.Мережковский тот же вопрос ставит всей русской общественности: "Полетим или
не полетим?" и продолжает: "Это вопрос не только о воздухоплавании, но и об
участии нашем в той всечеловеческой свободе, которая хочет воплотиться на
крыльях". Мережковский далее цитирует Вяч.Иванова, сказавшего: "Наше
освободительное движение было бессильной попыткой что-то окончательно решить и
выбрать"; нам не удалось сделать это, и потому "по-прежнему хаос в нашем
душевном теле", угрожающий гибелью России за то, что она стоит "немая
У перепутного креста,
Ни зверя
скипетр нести не смея,
ни иго легкое Христа".97
Остановиться же в
развитии не дано никому. Кто не может двигаться вверх, обречен сползать вниз,
нести "скипетр зверя". Перед проблемой России некогда стояла и Европа, но,
пишет Мережковский, "в самой тьме средних веков не утратил Запад воли к свету
... к возрождению", ибо Господь явился ему не в "рабьем зраке", а как
"Освободитель народов".98 Но вековое рабское воспитание России
лишает ее воли восходить по стопам Европы. С этим выводом нельзя не
согласиться, но не с полным осуждением Мережковским "русской идеи". России не
следует буквально идти по стопам Запада, и потому вполне оправдан поиск
"русской идеи", только искать ее следует на правильных путях.
России надлежит приготовиться к
своему часу, который наступит в шестой культуре. Бедственное же положение ее
вызвано как раз скоропалительным перенятием навыков западной жизни при
одновременном удержании народа под ярмом восточной деспотии. Языческая стихия
русской астральности требует продолжительной, пластичной и хорошо поставленной
культурной проработки. Проблема эта мировая. Мы видим во всем современном мире,
сколь мало служит добру рост одного лишь материального благосостояния.
Действительный прогресс возможен только при очищении астральной стихии всего
человечества. Но у Запада здесь свои Проблемы. Во всяком случае, он готовился к
ним около двух тысяч лет. Иное дело Россия. Эстетическая проработка души
ощущающей вызвала некоторое индивидуальное возвышение духа, но еще более
разбудила тоску по духу. "Тоска, - писал Крамской, - есть выражение сердца
общего характера России, тоскующего о каком-то потерянном блаженстве, о чем-то
высоком и святом".
Процесс индивидуализации породил
на русской почве эстетический тип личности. Но он не смог быть устойчивым по
той причине, что красота для русского человека связана с реальным переживанием
сверхчувственного мира, с опытом на Пороге, где он видит бьющих волнами света с
той стороны Порога на эту духов и хочет пасть пред ними на колени, потерять
себя в переживании красоты духовного мира (Р.Штайнер). Поэтому явление красоты
в русском искусстве поражает своей тонкостью, доходящей до экзальтации, которая
способна оторвать душу от земного. Переживая ее, душа ощущает непомерность
земного бремени и хочет разом сбросить его.
Русским свойственна
меланхоличность, но в ней содержится много от религиозного восторга. Недаром
Карамзин говорил, что обязан ей лучшими мгновениями своей жизни. Для русского
она - эффективное средство в мгновение ока освободиться от гнетущих тягот земли
и вознестись к вечным ценностям бытия; в ней прекрасное скорбно и скорбь
прекрасна (Лермонтов). Но, несомненно, для целей земных, практических, мало
подходит настроение, которое, например, воспевает А.Н.Апухтин - неподражаемый
выразитель русской меланхолии. Вот одно из его стихотворений:
"О, не тоскуй по мне!
Я там, где нет страданья ...
Забудь былых скорбей мучительные
сны ...
Пусть будут обо мне твои
воспоминанья
Светлей, чем первый день весны.
О, не тоскуй по мне!
Меж нами нет разлуки:
Я так же, как и встарь, душе твоей
близка,
Меня по-прежнему твои терзают муки,
Меня гнетет твоя тоска.
Живи, ты должен жить.
И если силой чуда
Ты снова здесь найдешь отраду и
покой,
То знай, что это я откликнулась оттуда
На зов души твоей больной.
"Голос издалека", 1891 г.
Представим еще себе эти стихи
пропетыми на музыку С.Рахманинова, и тогда станет понятно, почему древние
киевляне так боялись Соловья-разбойника.
А вот еще один стихотворный пример
(он тоже положен Рахманиновым на музыку):
Как мне больно, как хочется жить
...
Как свежа и душиста весна! ...
Нет, не в силах я сердце унять
В эту ночь голубую без сна.
Хоть бы старость пришла поскорей,
Хоть бы иней в кудрях заблестел,
Чтоб не пел для меня соловей,
Чтобы лес для меня не шумел.
Чтобы песнь не рвалась из души
Сквозь сирени в широкую даль,
Чтобы не было в этой тиши
Мне чего-то мучительно жаль!
В этом стихотворении Г.А.Галиной
("Весенняя ночь", 1900 г.) больше правды, чем в анархизме Бакунина, и в
трактатах социалистов, народников и проч., где на самом-то деле все порождено нестерпимой
тоской по духу души, затягиваемой в колесо материализма.
Сама по себе высокая эстетика
русского искусства, рожденная опытом сверхчувственных переживаний, есть
несомненное благо. Беда возникла оттого, что она соединилась с тройственной
душой, не сумевшей удержать равновесия между идеалом и реальностью. Лишь
целостная личность способна действительно христианизировать эту эстетику. В
раздвоенной личности вместо Христа заговорил Люцифер древнего язычества.
Односторонне, в обостренной климатом астральности Петербурга, в души людей стал
раньше времени, то есть неправомерно, просвечивать Самодух. Это привело
искусство как будто бы к новому взлету. Эстетизм символистов не поддается
описанию, прозорливость литературной критики (которой занимаются сами поэты,
писатели) почти достигает духа пророчества. С невиданной прежде ясностью встает
понимание судеб России, грозящих ей бед и опасностей. Но во всем этом
господствует по преимуществу воля к нисхождению, к смерти.* Ибо древний
Иванчище остается "каликой перехожей", интеллигенция теряет с ним всякую связь,
но одновременно - и со Христом. "Мы обречены необоримыми чарами своеобразного
Диониса", - признается Вячеслав Иванов. "Да, обречены, - соглашается с ним
Мережковский, - и в самом христианстве нашем, по преимуществу, аскетическом,
"совлекающем", из-за лика Христа выглядывает звероподобный лик варварского
Диониса, древнего Хмеля-Ярилы".
Но искушение двоится. За
чувственной реальностью, возбуждавшей лишь страх, выступает дьявол-Ариман. Его
природу также распознал Мережковский, o Упадком, несомненно, была охвачена вся
русская культура, но столь же несомненно ведущую роль в этом играл Петербург
Авторитет этого культурного центра был непререкаем.
М.В.Добужинский (1875-1957) дал ей образное воплощение (157). Во
внутреннем же душ встает Денница-Люцифер. В своем явлении "свыше" он еще имеет
(по-лермонтовски) привлекательный вид. Его певцом становится М.А.Врубель
(1856-1910). Трагедия русского Диониса, не нашедшего пути ко Христу, предстает
нам на полотнах этого художника: "Демон сидящий" (158), "Демон летящий", "Демон
поверженный" (205). Некогда он подвинул человеческую душу к свободе, а ныне
вместе с нею низвергается в бездну, если эта душа не спасает его, находя связь
со Христом - Богом человеческого "я", Который являясь одновременно и новым
Аполлоном, и новым Дионисом, ведет человека не к иллюзорной, а к Иерархической
свободе, к свободе, основанной на любви.
Многое было сделано русской
культурой, чтобы пробиться к такому пониманию Христа, и все же недостаточно
много. Откровенное язычество врубелевских полотен показывает - что встало в
подосновах душ. Эстетический ренессанс пошел рука об руку с декадансом. Внизу
зашевелились темные духи природы, восстал первобытный "Пан" (206). Высокий
взлет творчества возник над краем бездны. Возьмем примеры из поэзии А. Блока.
Ее достоинства известны, глупо об этом спорить. Но ведь нельзя пройти мимо
вещей симптоматологических. Сам Блок довольно ясно сознавал, что происходит. В
письме к А. Белому он заводит речь об Астарте и высказывает мнение, что ее
природа проявляется "... всего более в двух конечных пунктах человеческого
бытия ... в утонченной половой чувственности и в утонченной головной
диалектике". Но одно дело, что Блок понимал, и другое - что содержится в его
творчестве. Совершенно прав замечательный современный философ и литературовед
К.Свасьян, когда говорит о нем: "Ни у одного поэта не найдете вы такой свирепой
патологии раскаленной страсти; Лермонтов и Бодлер - с ними созвучна тема Блока
- сущие младенцы перед гиперболой любви у Блока ("разве это мы звали
любовью?"); страсть здесь "буйная", "пагубная", "яростная", "дикая", "низкая";
и чего только здесь не встретишь: и "пил я кровь из плеч благоуханных", и
"напрасных бешенство объятий", и "я перед ней как дикий зверь", и "В его руках
ты будешь биться, крича от боли и стыда", и "страстный бред", и "бред
поцелуев", и "старцем соблазненная жена", и "губы с запекшейся кровью", ... патология
эта распространяется Блоком не только на людей (людей ли?), но и на природу:
здесь и "обьятья могилы", и "развратная весна", и "Даже небо было страстно", и
"мчатся бешеные дива жадных облачных грудей", и "планета ... как солнце ...
горит от страсти"."
То, что звучало в поэзии Блока,
было духовной пищей, содержанием жизни немалого числа представителей культурной
элиты России конца XIX - начала XX века. В этой связи нельзя пройти мимо того,
что происходило в известной "башне" Вяч. Иванова, куда эта культурная элита
собиралась не только для бесед, но и в поисках основ для нового быта. "Попади в
эту "башню", - писал А. Белый, - забудешь, в какой ты стране и в какой ты эпохе
... все сместится; и день будет ночью; и ночь будет днем".100 Речи
там велись о Боге, о символизме, о судьбах России, но более всего об эросе; из
тех речей рождались литературные направления, стили (которым потом следовали по всей России);
параллельно же со всем этим в "башне" плелись замыслы групповых браков, о чем
свидетельствует Маргарита Волошина, едва не упавшая с этой "башни" в
нравственную бездну. В воспоминаниях о своем жизненном пути она рассказывает о
том, как в кругу Иванова искали такой общности людей, в которую, как в
магический круг, нисходил бы дух, искали прообраз будущей общины. Сам Иванов
вместе с женой проповедовал некое учение, согласно которому "ячейкой" такой
общины должна была стать любовь втроем (!). В подобной любви они видели "новую
церковь (не ту ли, что описал Брюсов в своем рассказе "Последние мученики"?), в
которой Эрос мог бы воплощаться до плоти и крови (!)".101 Поскольку
же церковь нуждается в культе, то кое-что пытались нащупать и здесь: в общую
чашу с водой капали кровь из надрезанных пальцев и затем вкруговую пили ее
(поэты, писатели, критики, философы, художники). Трудно представить себе более
чудовищное извращение идеи русской общины, созревавшей на протяжении всего XIX
века, чем то, к которому пришли интеллигенты в "башне" Вяч.Иванова. Оно-то,
извращение, и было злом, а не "русская идея", развиваемая Вл.Соловьевым, как ошибочно
полагает Д.С.Мережковский.
XX век сохранил множество сплетен
о "золотом веке" русской культуры. Записаны, хранятся и время от времени все
снова вылезают на свет грязные вымыслы о Пушкине, Лермонтове, Чайковском,
Достоевском, Льве Толстом и многих (если не всех) других. Но покрыты сумраком
кулисы, как его называют, "серебряного века", когда именно моральный упадок
стал причиной духовной, а затем социальной катастрофы. И чтобы ее понять (а не
для сплетен) мы вынуждены в какой-то мере за эти кулисы заглянуть. Оговоримся
еще раз, что мы при этом не имеем в виду весь феномен русской культуры начала
XX века в целом. В нем есть немало по-настоящему ценного, высоко духовного.
Русский ренессанс действительно имел место, а в нем - такое значительное
направление искусства, как символизм. (Это большая и совсем мало исследованная
тема). Но наряду с высоким, как ни в какой другой культуре, в России начала
нашего века господствовал упадок. Причину его возникновения мы до какой-то
степени показали. По отношению же к своему времени русские художники, писатели,
мыслители оказались слишком слабыми, чтобы противостоять "железному" натиску
века. Одни изменили высоким идеалам творчества, другие - жизненным идеалам
нравственности и самого человеческого духа. Часть интеллигенции опустилась на
такое "дно", которое в XIX веке не могло бы присниться даже в кошмарном сне.
Много заниматься этим вопросом мы не станем, но один пример возьмем. Рассмотрим
рассказ В.Брюсова "Последние мученики" (опубликован в сборнике под названием
"Земная ось", М., 1906 г.) Мы не думаем принимать за действительность все, что
содержится в этом рассказе, однако и полностью вымыслом его счесть нельзя. В
какой-то части рассказ, несомненно, документален, а главное -
симптоматологичен. В нем проглядывают те обширные кулисы, из-за которых
произрастали все "цветы зла" декадентства.
Повествование в рассказе ведется
от первого лица - непосредственного участника описываемых событий. В целом
рассказ стилизован не более не менее, как под Евангелие от Луки. Герои рассказа
- "религиозные мученики", которых Брюсов уподобляет ранним христианам.
Произошедшее с ними - это "беспристрастная повесть, - как говорится в рассказе,
- об одном из характернейших событий, совершившемся в начале того громадного
исторического движения, которое его приверженцы именуют теперь "Мировой
Революцией".
Поскольку речь идет о событии,
которое еще не совершилось к 1906 г., то рассказ вроде бы фантастический.
Главный персонаж рассказа узнает, что революция произошла. Он выходит на улицу
и видит повсюду толпы возбужденных людей. Оратор возвещает о том, что
совершилось давно всеми ожидаемое и проч. Его слушают с одобрением. В одном
месте рассказчик встречает отряд революционеров с красными повязками. Своей организованностью
они выгодно отличаются от взбудораженной массы. И тут рассказчику приходит
мысль, что "в эту ночь место каждому из верующих близ тех Символов, которые
наше поклонение уже сделало святыми". Он приходит в некий храм - архитектурное
совершенство, созданное одним из гениальных прихожан. Дверь отворяется в ответ
на условный стук. Внутри по широкой лестнице вверх и вниз снуют обеспокоенные
люди. Рассказчик встречает одного из Совета Служителей по имени Адамантий, и
тот объясняет ему, что случившееся - "это эра новой жизни", но сами они, попав
между двумя мирами, будут "растерты в прах". Далее рассказчик беседует с некоей
Анастасией. "Вся моя жизнь, - говорит она, - ... в тех утонченных переживаниях,
которые возможны только на высоте! ... я не хочу вашей свободы, вашего
равенства!"
Но вот на амвоне появляется жрец
Феодосии в белоснежном хитоне, сопровождаемый группой дьяконисс. Он начинает
говорить, и "голос его, как вино, проникающее в душу". Глаза его излучают
гипнотическую силу, а из уст звучит: "Вера наша - последняя Тайна мира, которой
поклоняются во всех столетиях и на всех планетах ... высшая страсть неотделима
от смерти" и т.п.
Чуть позже рассказчика приглашают
в особую комнату, где собрался Совет Служителей. Феодосии показывает
проскрипционные списки "Центрального Штаба" революционеров. По приговору
"Тайного Суда" все члены Совета внесены в эти списки и будут казнены. Вдруг
появляется представитель "Штаба" и приказывает всем разойтись. Феодосии дает
ему вдохновенную отповедь, в которой среди прочего говорит: "Мы стоим на тех
вершинах сознания, до которых вы не достигали никогда"; в нашей церкви
собирается "цвет нашего времени", поэты, художники, мыслители. Представитель на
это отвечает: "Мы отсечем всех мертвых, всех неспособных на возрождение ... В
нас довольно сил, чтобы породить новое поколение мудрецов и художников ... Мы
отрекаемся от всякого наследства".
После ухода представителя Совет
решает скрыть от паствы, что все они обречены, и служить последнюю службу. "Мы
здесь для подвига веры!" - восклицает Феодосии. В храме зажигают все свечи,
начинает звучать орган, и "... совершались великие обряды
перед Символом. Обнаженные отроки, по чину, снимали покровы со святыни.
Незримый хор дьяконисс славил Слепую Тайну". Стали раздавать вино. Вот
появилась жрица Геро в одном лишь "золотозмейном" поясе, а с нею 12 "сестер",
одетых "так же, как она". Жрица пошла в круговой пляске по храму, увлекая всех
за собой. Стало нарастать исступление. И тут Феодосии провозгласил: "Придите,
верные, сотворить жертву!" Все замерли. К Геро подошел прекрасный "как Ганимед"
юноша. Стыдливо он скинул одежды и вместе со жрицей скрылся за завесой алтаря.
"Свершилось!" - снова провозгласил Феодосии, вынес чашу и благословил всех.
Исступленно заиграл орган, "и мы, - говорит рассказчик, - припали один к
другому ...", "были сближения, сплетения, единения; были вскрики, стоны, боль и
восторг", "изгибы тел женских, мужских, детских", "двойное, тройное,
многочленное объятие".
Уже на рассвете неожиданно
занавеси на окнах упали. Стоящие снаружи милиционеры, увидев "символ" и
переплетенные на полу тела, открыли по ним стрельбу. Последнее, что слышал
рассказчик, был возглас Феодосия: "В руки твои предаю дух мой!"
Но довольно примеров. Обратимся к
самому профеномену русской души. Что случилось с ним на рубеже веков? В
процессе двухвекового развития он претерпел большую метаморфозу, в результате
которой преимущественное воплощение в культуре получила тройственная душа. На
этом пути развития возобладала стихия астрального тела и было поколеблено
равновесное состояние "я" в душе рассудочной. Внизу, в астральности души
ощущающей, ожило "пламя вожделений", или атавистический дионисизм, что привело
к неким визионарным прозрениям в сверхчувственный мир; вверху, в астральности
души сознательной, выступил, опять же в атавистическом облике, Аполлон, который
тогда является не кем иным, как Люцифером - инспиратором искусства. Этим
объясняется стремление художественной элиты начала XX века соединить эротизм с
магизмом.* Она чувствовала, что на этой основе обостряются идущие сверху
инспирации Люцифера, благодаря которым художественное творчество обретает
неслыханный прежде эстетизм, утонченность формы. А что при этом оно совершенно
порывает связь с Христианством - до этого им уже не было дела. Поясним эту
констелляцию рисунком (см. след. стр.).
* См. признания А.Белого о магии слов у Блока.

Таков был по своей сути русский
"ренессанс-декаданс". Породившая его тройственная душа нашла в нем и свое
собственное выражение. Мы узнаем ее, например, в образах романа Ф.К.Сологуба
"Мелкий бес" (1907 г.). Для русского символизма в целом, представителем
которого был Сологуб, характерно умение проникать до мифологического слоя
культуры и оттуда насыщать содержанием свои образы; поэтому названный роман
позволяет нам пройти в обратном направлении от образа до первичного феномена.
Тема его по сути та же, что в Пушкинской "Пиковой даме", можно сказать, -
главная тема русской литературы, хотя в подаче ее Пушкиным она может показаться
непритязательной и второстепенной. Однако духовная ценность произведения искусства, как
известно, не обусловлена его размером. Дело в том, что в начале XIX века
русский Фауст, как в своем идеальном праобразе, так и в социальной реальности,
был далеко не таков, чтобы для его воплощения в искусстве потребовался труд,
проделанный Гете. Но проходит менее полустолетия, и образ настолько
углубляется, приобретает такое общественное звучание, что уже требуется
полновесный и первокласный роман, чтобы адекватно отобразить его проблематику.
И таким романом является "Обрыв" (1869 г.) Гончарова. В его сюжете встают те же
образы, что и в повести Пушкина: это бабушка, внучка, любовник; к ним
добавляется еще четвертый персонаж - Райский (ведь тема развивается органично,
как и сама жизнь).
Далее все это снова возрождается в
романе Сологуба, пройдя еще через одну метаморфозу. Правда, по сравнению с
пушкинским и гончаровским, произведение Сологуба, в известном смысле, - роман с
"черного хода". Антиэстетизм, почти сплошь отрицательные герои превращают
чтение романа в сущее испытание. И тем не менее, трудно найти другое,
современное Сологубу, произведение, где так непосредственно была бы выражена
фаустовская тема. Сологуб подходит к ней не извне, а изнутри, решает ее
непосредственно в сфере того упадочного дионисизма, в среде которого он сам
развивался и дух которого хорошо постиг. Гончаровская Вера в его романе
превращается в Варвару; оба имени со смыслом, одно
однозначно со словом "вера", другое - "варварка". Райский становится
Передоновым. Опять же: Рай, выси и дно, дно последней степени: Передонов. Но
вместо бабушки Бережковой Сологуб дает аналог образа пушкинской графини. Она
(некая княгиня), правда, не родственница Варвары, но с ее помощью Передонов,
подобно Германну, надеется добиться жизненного успеха: он ждет от нее
протекции, которая поможет ему получить место школьного инспектора. Времена
переменились, герой ищет не рискованного успеха с помощью карт, а стабильного
благополучия. Княгиня (сама она в романе не появляется) может помочь
Передонову, потому что Варвара когда-то служила у нее портнихой и компаньонкой.
Передонов ставит условие, что женится на Варваре, с которой давно
сожительствует, лишь в том случае, если та добьется от княгини протекции. А до
того момента он присматривается к другим невестам в городе; те же, в свою
очередь, охотятся за ним. Во всем, что делает Передонов, он поступает как
антигерой. Кажется, что все доброе, человеческое ему чуждо. Злоба, зависть,
мелочный эгоизм всецело заполняют его уже больную душу. Его образ - гротеск, в
сравнении с пушкинскими и гончаровскими героями. И в то же время автор наделяет
его архетипическими чертами. Подобно сказочному Ивану-Царевичу, Передонов -
"вечный жених". И потому в городке, где он живет, все девицы на выданье думают
о нем. Он сватается к трем сестрам Ругилова. Сцена эта - пародия на пушкинское:
Три девицы под окном Пряли поздно вечерком.
Однажды вечером Передонов стоит во
дворе под окном у Рутилова и ждет, пока тот приготовит старшую, Дарью, идти под
венец. Но сомнения овладевают Передоновым. Он зовет Рутилова и просит готовить
вместо Дарьи среднюю, Людмилу. Но та же история повторяется и с нею, и с
младшей, Велерией. Девушки нервно смеются, а Передонов уходит.
У Передонова есть друг, Володин.
Тот, напротив, никак не может найти невесту, ибо начисто лишен всякого
внутреннего содержания. Даже обликом он напоминает барана: курчавые волосы,
круглые глаза, блеющий смех.
Передонов и Варвара - это та
двуипостасная (мужески-женская) душа, которая идет к земному воплощению со
времени райского искушения. Она едина по духовной сути, хотя является
по-разному в мужской и женской инкарнации. Сологуб показывает ее полную
ариманизацию к концу XIX века. Это, естественно, не было судьбой каждого
русского человека, а только тех, кто связал себя с рассудочной культурой, с
городской цивилизацией. Некогда женская ипостась на пути от души ощущающей к
рассудочной - "Бедная Лиза" - заявила о своих индивидуальных правах, однако
была отвергнута индивидуализированной, но погруженной в сословные предрассудки,
мужской ипостасью. Гармонии не получилось. У Пушкина они обе пробуждены, но
падают жертвой люциферического и ариманического искушения, и только в смерти
побеждают и соединяются в духе (финал оперы П.И.Чайковского). У Гончарова
женская ипостась стоит на грани двух миров: мира единой и тройственной души.
Наконец, у Сологуба она входит вослед герою в душу рассудочную, но там ариманизируется.
Сологуб просто гениально
показывает в образе Варвары процесс отвердения, ороговения эфирных сил человека
вследствие ариманизации: у Варвары прекрасное, язычески соблазнительное тело (в
нем проявляется астральная стихия), но безобразная голова, грубые, покрасневшие
руки, и ходит она как-то странно, будто колченогая. Весь облик ее плебейский, и
от дворянства (духовный аристократизм) осталось в ней одно название.
Передонов ариманизируется не
просто до порабощенности материальными интересами, он делается больным
человеком. Его главная страсть - везде и всюду чинить людям мелкие пакости. Но
чем более он ей предается, тем больше пустеет его душа, и он приближается к
умопомешательству. Райский у Гончарова еще может спекулятивно
разглагольствовать о моральной эмансипации и проч. Он, как и Вера, лишь одной
частью соприкасается с миром тройственной души, другой же коренится в душе
единой. Бабушка Бережкова, как прадревнее русское начало, служит им обоим
опорой, она бережет традиции единства. В то же время, она - и некие "берега"
реки русской жизни, не дающие ей разлиться в хаосе. Главное ее достоинство - верность
русскому началу. Ее антипод - пушкинская графиня, "Венера Московская",
растратившая в Париже все моральные ценности и ставшая в русской жизни злобным
анахронизмом и зловещей тайной. Поэтому она может способствовать лишь гибели
героев.
Передонов характером похож на
пушкинскую графиню, а по сравнению с Райским уходит на дно до конца, "под
обрыв", где у Гончарова бродит Марк Волохов. Там Передоновым овладевают
галлюцинации. "Серая недотыкомка", воплощение мелкого бесовства Передонова
(вспомним здесь Ивана Карамазова с его двойником), шныряет повсюду, и с нею
плывет его сознание. Он приходит к войне всех против всех: "на всем были чары и
чудеса, - читаем мы в романе. - Визжала дикая недотыкомка, злобно и коварно
смотрели на Передонова и люди, и скоты. Все было ему враждебно, он был один
против всех". Виновница его крушения - княгиня, или то аристократическое начало,
по воле которого, как говорил Чаадаев, в один момент без войны и завоеваний
одна часть русского населения оказалась в рабстве у другой. Освободившийся в
своем сознании от оков родового, разночинец остался в рабстве у
материалистических представлений аристократии, ибо она - истинный источник
материализма. И вот дворянский декаданс как тяжелая карма постигает разночинца.
Пробудившись в тройственной душе, разночинец зрит лик материализма, и вид его
невыносим: Передонов "вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже
здесь, близко, совсем близко. Быть может, в этой колоде карт.
Да, несомненно, она - пиковая или
червонная дама". Он бросает карты в печь. Но, увы, княгиня - это не Саламандра
Одоевского. Из огня встает "маленькая пепельно-серая женщина ... она
пронзительно вопила тонким голосом, шипела и плевала на огонь.
Передонов повалился навзничь и
завыл от ужаса. Мрак объял его ...".
В романе Сологуба встает вскрытая
Достоевским в "братьях Карамазовых" тема двойника: Мы видим, что двойник,
являвшийся материалисту Ивану лишь по временам, целиком воплотился в
Передонова, вытеснил, заместил его личность. Потому ни одно
светлое побуждение больше не свойственно Передонову. От человека остается лишь
пустая оболочка - Володин. Этот персонаж выражает собою также и то конечное,
логически необходимое состояние, к которому должен прийти Марк Волохов.*
Двойник Передонова, изгнав его подлинную личность, совершает последний акт -
убивает его "личину", Володина. Так кончается драма той русской фаустовской
души, которая, начав свой путь от реформ Петра Великого, в конце концов пала
жертвой Аримана. Ее итог: война всех против всех, безумие и смерть. Но Сологуб
чувствует и иное - молодость русской души. Она
умереть не может. Но что происходит с ней? Женская ипостась этой души -
Людмила, одна из сестер Рутилова. Ее древний праобраз - Самодух, который на
пути посвящения завоевывает Руслан; она же - Марья-Моревна, сказочная супруга
Ивана-Царевича. Но в земной истории судьба ее сложилась иначе. Подобно
пушкинской Лизе (в том аспекте, который открыл Чайковский), она прельщается
"лунным" светом язычества. "Люблю красоту, - говорит она у Сологуба. - Язычница
я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды,
голое тело. Говорят, есть душа, не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть
умру совсем, как русалка, как туча под солнцем растаю".
* В романе Сологуба в ряде эпизодов оживает и гончаровская Вера.
Она - дворянская девушка, образованная, свободно мыслящая, но в то же время
достойная, скажем мы, "внучка" бабушки Бережковой. Володин сватается к ней, но
опыт у нее уже иной, и задачи не те, да и сам Володин - не Волохов. С иронией
она встречает его предложение и думает лишь о том, как бы не обидеть
незадачливого претендента отказом.
Мужская ипостась этой души еще
совсем юная. Это гимназист Саша - добросовестный и совестливый мальчик, который
хорошо учится, сознает свои обязанности, долг. Его опекает добрая старушка, у
которой родители Саши сняли для него квартиру. Но старушка - не Бережкова.
Людмила же - словно райский змий. Изнывая от
безделья и одиночества, она, подобно лермонтовскому Демону, начинает мало-помалу
развращать гимназиста Сашу. И не без успеха. Мальчик слишком юн, почти еще
ребенок. В его душу не вложили ничего, кроме некоторых абстрактных правил
морали. Религиозности совсем не видно в нем. В то же время "пламя вожделений"
таится в подосновах и его души. И вот он уже приведен к тому, что ему "хотелось
что-то сделать ей, милое или больное, нежное или стыдное, - но что? Целовать ей
ноги? Или бить ее, долго, сильно, длинными и гибкими ветвями? Чтобы она
смеялась от радости или кричала от боли? И то, и другое, может быть, желанно
ей, но мало". Как видим, и здесь нас встречает блоковское: "пил я кровь из плеч
благоуханных" и проч.**
** Достойно глубокого удивления, как все это, спустя 80-90 лет,
вновь восстает ныне и куда с большим размахом. Но осознать бы, сколь это не
ново и чего стоило нам в прошлом!
Таким образом, разрываемый
вакханками Дионис внизу и доведенный Ариманом до безумия Аполлон вверху - вот
та конечная констелляция русской души, к которой она пришла, потерпев двойное
крушение в ходе культурного развития России в XVIII и XIX веках. Но означает ли
это смерть без Воскресения? - спросим мы. Такого не может быть никак.
Поэтому в нашей истории и культуре
наступила "Пралайя".
Очерк VII
СКАЗКИ ХХ-го ВЕКА
"Lassen sie mich nur zuvorderst
gleichnissweise
reden! Bei
schwerbegreiflichen Dingen tut man
wohl sich auf diese weise zu helfen"
Goethe.Wilhelm Meisters Wandeljahre.
"Позвольте мне на этот раз говорить притчей.
При трудно
понимаемых вещах, пожалуй,
только таким образом и можно помочь делу".
Гете. Годы странствий Вильгельма Майстера.
Что такое пралайя? Это особый этап
в эволюции, когда все физически, материально проявленное бытие переходит на
духовный план, и то, что прежде составляло два разных мира: феноменальный и мир
сущностей, из которых один открывался восприятиям чувств, а другой - уму,
сливаются воедино, образуя ту сложную реальность, нижние ступени которой так
впечатляюще живописал Иероним Босх. Развитие человечества в XX веке многими
чертами обнаруживает такое совмещение двух реальностей, прежде всегда
выступавших раздельно. Говорят, что многое в нашем веке иррационально. Так оно
и есть, если оставаться при тех старых представлениях, которые браво и уверенно
в свое время развивали столпы материализма. Им было легко. Окружавший их мир
обладал устойчивым равновесием и нигде не обнаруживал разрывов в причинно-следственной
связи своих явлений. Иное дело мы. Наше время на каждом шагу предъявляет
рациональной силе человеческого суждения испытания столь непомерные, что если
она желает справиться с ними, ей как раз впору обратиться к притче, к сказке, к
мифу, всегда стоящим на грани двух миров. Только не следует принимать их
упрощенно, как сказочки, составленные якобы лишь для детей. Таковыми они не
были ни прежде, ни теперь. В своем исконном значении миф - выразитель
усложненной реальности.
По этой причине, дабы не топтаться
в растерянности у "сезама" иррациональности, чувствуя себя бессильными понять
"этот безумный, безумный мир", мы завершим наши очерки рассмотрением некоторых
сказок, в надежде отыскать в них рациональное зерно. Начнем с самой Западной
Европы, откуда, с вершины души сознательной, особенно ясно должен быть виден
весь мир. На наш взгляд, наиболее значительная сказка, написанная там в ХХ-м
веке, - это "Властелин Колец" Дж. Р.Толкиена.102 Она состоит из трех
больших частей, а неким прологом к ней служит еще одна сказка, под названием
"Хоббит". Таким образом, мы имеем здесь дело с многотомным произведением, в
котором перед нами разворачивается целый мир образов - сложный, многоплановый и
вполне законченный в себе, воссозданный на основе долгого осмысления автором
северогерманской, англосаксонской, кельтской, античной мифологии, мифов и
преданий многих других народов, а также оккультных учений Запада и Востока.
Главная особенность этой гигантской сказки состоит в том, что, в отличие,
скажем, от гетевской "Сказки о зеленой Змее и прекрасной Лилии", от сказки
Новалиса, включенной им в роман "Генрих фон Офтердинген", или сказок Андерсена,
она не является вполне художественной, т.е. рожденной из одного только
художественного воображения, художественной интуиции, а построена "умно", путем
зашифровки в сказочные образы символов и аллегорий определенных идей и
дальнейшей их художественной обработки. Сам по себе такой прием при написании
сказок вполне правомерен, но в нем имеется один, так сказать, "подводный
камень". Дело в том, что строя подобным образом сюжет, сказочник вкладывает в
его иносказательный смысл собственные взгляды и абстрактные идеи. Он работает
по принципу, выраженному Пушкиным: "Сказка ложь, да в ней намек - добрым
молодцам урок". Хорошо, если в его взглядах все обстоит благополучно, т.е. они
отвечают действительности. Но если в них содержатся ошибки, то они будут
включены и в тот "урок", что читатель получит от прочтения такой сказки. По
этой причине в далеком прошлом сказки составляли только высокие Посвященные. В
наше время мир сверхчувственной реальности, который говорил через них,
раскрывает себя в художественной интуиции индивидуального творчества. Рожденные
из нее сказки свободны от субъективных представлений рационального ума, они
внеидеологичны.
Сказанным мы хотели бы
предупредить читателя, что, изучая сказку Толкиена, не следует забывать о
присутствии за ее строками представлений самого автора, хотя и выраженных
художественно.
Толкиен широко использует в
развитии сюжета метод наложения нескольких планов, следуя логике развития каждого
из них в отдельности, и, одновременно, сочетая их в некое целое, что и образует
новую чувственно-сверхчувственную реальность. Основные из этих планов суть
следующие: мифологический, исторический, социальный; особо в сказке
прослеживается план, проистекающий из науки посвящения. Мы не берем на себя
задачу полностью раскрыть иносказательный смысл всех планов, ибо, во-первых,
это совсем не просто сделать, если учесть, что Толкиен потратил более двух
десятков лет на разработку и построение своего сюжета; во-вторых, такая работа
увела бы нас далеко за рамки задач, поставленных во всей серии наших очерков;
кроме того, нам тогда пришлось бы коснуться вопросов, которые мы до сего
момента сознательно обходили. Поэтому мы углубимся в сказку Толкиена лишь
настолько, насколько она имеет касательство непосредственно к нашей теме. При
этом мы не станем вводить читателя в заблуждение насчет наших возможностей и
прямо укажем, где даваемый нами комментарий будет носить лишь предположительный
характер.
Начнем с "Хоббита". Сказка
написана как вполне самостоятельное произведение. Но в процессе работы над нею
идеи автора претерпели значительную метаморфозу и получили такой размах, что
вылились в трилогию "Властелин Колец". В дальнейшем мы увидим,
как сюжет одной сказки перерастает в другую; что же касается первой из них, то
в ней Толкиен ставит себе задачу показать, каким образом, так сказать,
английская сущность в не особенно отдаленном прошлом штурмовала высоты
посвящения. Хоббиты - это, вне всякого сомнения, англичане - Булкинсы,
Торбинсы, Лякошели и проч., - оптимисты и жизнелюбы, настолько увлеченные миром
чувственных удовольствий, что ножки у них покрылись мягкой и плотной шерстью. В
беззлобном юморе этого образа автор выражает свое критическое отношение к
соотечественникам, и делает это с известной долей эзотеризма. Обращаясь к языку
Антропософии, мы могли бы здесь сказать, что в наименее очищенной части
астрального тела человека проявляется его родство с миром животных; и имеется определенная
взаимосвязь между волосяным покровом и мерой чувственности, развиваемой
человеком, его склонностью к удовольствиям низшего порядка.
Однако в природе
хоббитов содержится и некое ядро, сила, позволяющая кое-кому из них совершать
путешествия "туда и обратно" (как сказано в подзаголовке "Хоббита"), т.е. в
сверхчувственный мир. Именно таким хоббитом является Бильбо Бэггинс - средний
англичанин, в котором, однако, в противовес родственникам "ля-Кошелям" (в этом
заключен двойной смысл), еще не умер дух древних героических предков. Правда,
сам он о том и не подозревает, поскольку изрядно засиделся за "чаем с кексами"
в своей уютной "норе". Но то, о чем забыл Бильбо, хорошо помнит Гэндальф -
посвященный англосаксонской расы, хранитель и охранитель ее духовных традиций и
самого существования. Кроме того, Гэндальф - один из виднейших членов некоего,
скажем условно, "Белого Братства" (о нем речь пойдет впереди), призванного
вести и направлять эволюцию всего человечества. В этом "Братстве", как
повествует Толкиен, нарастает тревога по поводу чрезмерного засилья
материальной культуры (мы привлекаем здесь кое-что из первой части трилогии),
что приводит людей к утрате всякой связи с духом. Для народов "Средиземья"
(Европы) подобное развитие грозит потерей всех тех плодов, что вынашивались ими
на протяжении многих столетий: деиндивидуализацией сознания и разрушением
социальных структур, обусловленных характером индивидуального "я".*
* Мы часто будем пользоваться антропософскими понятиями,
комментируя сказку Толкиена, хотя сам он не оставил явных следов того, что
изучал Духовную науку. Право на это нам дает то обстоятельство, что всюду, где
он верно следует эзотерическим первоисточникам, открыта возможность толковать
их с помощью Антропософии. Однако у Толкиена имеется немало и таких мест, где
он руководствуется весьма туманной и путанной масонской символикой, какой она стала
к началу XX века, тенденциозным пониманием древних мифов, обусловленным борьбой
разных оккультных направлений. В подобных случаях раскрывать смысл его образов
становится особенно трудно и малоплодотворно.
И вот возникает
намерение вернуть права идеалам посвящения, свергнуть дракона материалистического
мышления и восстановить сознательную связь народов с духом. Дракон поселился в
человеческих головах. Он похитил сокровища чистого мышления, к которому в новой
эпохе должны приходить не только отдельные посвященные, но и многие, причастные
к культуре мышления люди. Вот почему на борьбу с драконом должен идти "средний" хоббит, Бильбо Бэггинс. Вместе с
ним в походе участвуют представители всех европейских народов: англосаксонских,
немецкоязычных, латинских, славянских (последние, правда, едва прослеживаются),
но его собственная роль в их среде - главенствующая по той причине, что он сам
представляет не столько какой-либо отдельный народ, сколько душу сознательную с
ее мировым характером. Образы народов даны в виде 13-ти гномов. Это не просто
отдельные люди пятой культурной эпохи (они мало годятся для посвятительного похода),
а выразители, или представители самой сущности народов, сложившейся в процессе
долгого исторического развития. Поэтому гномы производят впечатление
сверхиндивидуальных существ.
Внешне сюжет
"Хоббита" напоминает германский миф о Кольце Нибелунгов, где также речь идет о
карликах, хранящих в горе свое золото. Но Толкиен этот миф осовременивает:
вводит в него социально-исторический план и наделяет динамикой, свойственной
новейшим временам. В "нору" к Бильбо вваливаются 13 гномов и вмиг создают
угрозу запасам его кексов и прочего продовольствия. Все они охарактеризованы
индивидуально и поставлены в связь со вполне определенными мифологическими
образами. Однако мы совершим ошибку, пытаясь истолковать все действия гномов
как непосредственно вытекающие из их мифологической сущности. Такой сверхзадачи
Толкиен, естественно, решить не может, но все же пытается идти именно этим
путем. Например, гному с синей бородой, обладателю темно-зеленого капюшона и
золотого кушака (он пьет чай и играет на виоле), дано имя Двалин
("медлительный"). В мифологии такое имя носит один из четырех гномов, сковавших
ожерелье для Фрейи. У Толкиена он, вместе с Балином, выступает как
представитель англоязычных народов, а точнее, той их глубинной сущности,
которая восходит к оккультным традициям рыцарей короля Артура (одного из его
рыцарей так и звали - Балин).
Таким образом,
перед нами встает двоякое: с одной стороны, мы можем углубиться в исследования
мифологических образов германского Севера и англосаксов, между которыми, как
подчеркивает автор, имеется определенная взаимосвязь, а с другой - он
осовременивает их, придает им новую актуальность, и так творит профеноменальную
реальность нашей эпохи.
Другого гнома
зовут Thorin ("храбрый"), а фамилия его Оукеншильд (Schild по-немецки означает "щит"); он является к
Бильбо тринадцатым, а. по отношению к остальным двенадцати гномам занимает
самое важное место. Его имя также заимствовано из мифологии, но Толкиену в нем
особенно важен корень "Тhor". Он подчеркивает это, говоря, что деда Торина звали Тhror. И становится понятно, что Торин -
представитель немецкого народа, чьи оккультные традиции восходят к Тору -
древнегерманскому богу, в котором персонифицировано становящееся человеческое
"я". Молот Тора, говорит Р.Штайнер, - это сила "я", поражающая в голову змею
ариманического мышления Миттгарт. Торин играет на арфе. Вспомним в этой связи,
что было у нас уже сказано о лире Аполлона.
Гэндальф
участвует в походе как оккультный учитель, приходящий на помощь лишь в наиболее
трудные моменты. Те, кто стали его учениками (Бильбо и гномы), должны сами пройти через посвятительный процесс.
Начинается он в 1341 г. "от заселения Хоббитании". Если принять, что это
заселение началось в V в. по Р. X., то дата означает 1841 год (1341+500) и в
ней заключен глубокий смысл: это год начала борьбы Архангела Михаила с
ариманическим драконом. Все 40-е годы XIX века Р.Штайнер называет самой низшей
точкой нисхождения человечества в материализм.
Маршрут, по которому движется
Бильбо с гномами, проходит через разные части человеческого тела в направлении
снизу вверх. Еще со времен средневековья в оккультных братствах Европы стали
появляться рисунки с изображением сверхчувственной природы человека. Их
рисовали в помощь неофитам, проходившим подготовительные ступени посвящения.
Оккультисты, обладавшие сверхчувственным опытом, изображали на этих рисунках
природу неочищенного астрального тела человека, где различные страсти,
инстинкты имеют животные облики. В дальнейшем масонская традиция развернула эти
рисунки в целые схемы-маршруты, на которых в образной форме показывались разные
опасности, подстерегающие ученика оккультизма на пути самопознания. Одну из
таких схем и представляет собой карта маршрута "туда и обратно", приложенная к
тексту "Хоббита". На ней Хоббитания означает физический план, отделенный от
сверхчувственного рекой. Что встречает участников похода по ту сторону реки -
это низшая природа их собственных астральных тел, связанная в физическом
организме с системой конечностей и обмена веществ. Инстинктивные силы этой
сферы - поглощающие, всасывающие, растворяющие - в имагинации предстают в виде
трех троллей. Совершенно правильно, если смотреть с оккультной точки зрения,
что им даны английские имена (с американским оттенком), ибо душа сознательная
(инстинктивно изживаемая в англосаксонской расе) связана со стихией воли, а та,
в свою очередь, коренится преимущественно в "нижнем" человеке, в системе
конечностей и обмена веществ.*
* Напомним, что отдельные элементы антропософского учения о
трехчленном человеке мы излагали в I книге
Бильбо пытается обмануть
инстинкты, пользуясь своим умом и сметливостью (крадет у тролля кошелек), чем
напоминает нам хитроумного Одиссея, но тут же попадается к троллям в лапы. - На
посвятительном пути инстинкты следует изживать, пронизывать их светом
самосознания, а не обманывать (как это, например, делают аскеты). Гномы, не
обладающие силой души сознательной, вообще "без задержек" попадают к троллям в
плен. В сцене, где это происходит, весьма прозрачно указано на природу
действующих там сил. Если подходить к содержанию чисто внешне, то нам просто не
понять, почему это умные гномы, как говорится, без всякой паузы, "с разбега"
лезут на свет к костру, где сидят тролли, и проч.
Итак, первая встреча
путешественников "туда и обратно" со сферой инстинктов кончается поражением.
Приходится Гэндальфу выручать их с помощью своей магии. Но вслед за троллями
они наталкиваются на новые испытания: их осаждают гоблины и волки, или, скажем,
мир их собственных страстей и пороков. От гоблинов, как пишет Толкиен, родились
разрушительные открытия
цивилизации - "машины массового уничтожения", но, одновременно, и всякий
"полезный инструмент". Такова сложная природа человеческого эго. Некоторые из
гномов, "бессовестные гномы" (силы рассудка, всецело отданные
материалистической науке, индустриализму), заключили с гоблинами союз, но племя
Торина - спиритуальная немецкая культура, немецкий идеализм: мистика,
философия, эстетика - на этот союз не пошло, за что гоблины его особенно
ненавидят. Орлы - силы чистого мышления - спасают Бильбо и гномов из
безвыходного положения (убегая от волков, они залезают на деревья, т.е.
пытаются уйти из астрального мира пороков эгоизма в мир эфирных сил), в котором
они оказываются по той причине, что встречаются с миром своих моральных
недостатков неподготовленными.
Мглистые горы - это грудо-брюшная
преграда. За нею начинается область ритма: сердца и легких. Все, чем должен
заниматься ученик оккультизма, прежде, чем подойти к системе ритма, в индийской
эзотерической традиции носит название "йамы" и "нийамы". Это начальные ступени
посвящения, на которых ученик занимается моральным самоусовершенствованием,
после чего может приступать к "пранайаме" - дыхательным упражнениям. Комплекс
моральных упражнений в той или иной форме можно встретить почти во всех более
или менее серьезных системах оккультизма (различия между ними обычно начинаются
с дальнейших ступеней). Присутствует он и в масонстве, но на первых ступенях
(градусах) отношение к нему самое поверхностное. Масонство ввело в свою систему
посвящения и пранайаму, заимствовав ее у индийского оккультизма. И вот наши
путешественники оказываются перед этой ступенью. Правда, до того они еще
попадают в загадочный дом Беорна. Толкиен, видимо, зашифровал здесь тайну
духовной природы печени. - Беорн легко раздражается, но если быть с ним
обходительным, то он может оказаться весьма полезным. Пищу его составляют
сливки и мед (сахар); ему служат злые пчелы (желчь?) и разные сознательные
животные (функции печени). Сам он обладает двумя природами: инстинктивной - он
иногда является медведем - и очеловеченной. Тайна деятельности печени
мистериальна. Путешественники еще не готовы к тому, чтобы проникнуть в нее.
Поэтому "ночью", т.е. сверхчувственно, им не позволяют выходить из дома Беорна.
Не будем делать этого и мы, и ограничимся лишь нашим предположением.
Занятия пранайамой образно описаны
в виде путешествия Бильбо и гномов через Черный лес. Деревья в этом лесу имеют
толстые стволы, узловатые, искривленные ветви и продолговатые листья. Такой вид
имеют легкие с главными дыхательными путями (трахеей), разветвляющимися,
подобно дереву, на сложную сеть бронхов и бронхиол, заканчивающихся альвеолами.
Путешественники могут двигаться лишь по одной тропе, т.е. по трахее, дабы иметь
дело только с воздухом, а не с тем, что происходит далее: с кислородным обменом
в крови. Здесь их подстерегает опасность: Черный ручей. Это венозная кровь,
перенасыщенная углекислотой - потому ручей вызывает сонливость.
Пранайама может привести ученика
на другой уровень сознания, где перед ним возникнут имагинации. В них
раскроется духовная сущность воздуха. Так это и происходит с Бомбуром. Когда он
"засыпает" (погашает восприятия внешних чувств), то видит эльфов - духов
воздуха. Вслед за Бомбуром к имагинациям приходят и остальные, но и здесь они
не справляются с тем, что им предстает. Сначала их опутывает инстинктивная,
органическая сила дыхания (пауки), а потом они попадают в плен к духам воздуха,
но зато спасаются от пауков. Путники не знают, как вести себя в имагинативном
мире, где господствуют совершенно иные, чем в физическом мире, законы. Бильбо и
гномы движутся к спиритуальному переживанию мышления через занятия дыхательными
упражнениями, и пока еще не знают природы эльфов, которые впервые выступают
перед ними как объективная духовная реальность. Эльфы же смотрят на них как на
"праздношатающихся" в имагинативном "лесу" дыхания, что, согласно законам
посвящения, никому делать непозволительно.*
* Путники встречаются с эльфами (но иными, чем в Черном Лесу) еще
ранее, в Последнем Приюте. Этим, возможно, указывается на двоякое: на роль
диафрагмы в пранайаме и на переживание обычного дыхания, которое основательно
видоизменяет ученик, приступая к оккультной практике.
Из Замка Эльфов, где наших
путешественников запирают в подвале, существует два выхода: обычный, через
органы дыхания, и еще один, через некий люк в полу. Здесь Толкиен в прекрасной
сказочной форме описывает процесс взаимодействия воздуха с кровью. "Люк" ведет
в "реку" - в артериальную кровь. По этой реке, протекающей под Замком Эльфов,
откуда-то сверху приплывают бочки (кровяные тельца), груженые пищей и вином (С
и 02, С02). Эльфы эти бочки разгружают и пустые снова бросают через люк (альвеолы)
в реку. Бильбо, сумев остаться невидимым благодаря своей душе сознательной,
которая на время поднимается в более высокие миры (но неправомерно, благодаря
Кольцу, о котором речь впереди), может покидать Замок и возвращаться в него
через главные ворота, вместе с эльфами, т.е. путем, по которому идет воздушный
поток. Но он понимает, что если гномы через люк попадут в реку и уплывут по
ней, а он выйдет через ворота, то тогда ему не удастся соединиться с ними.
В пустых бочках (свободных от СО2)
вся компания бежит от эльфов: переходит из системы дыхания в верхний круг
кровообращения, который приводит их в область сердца - город Эсгарот на берегу
Долгого озера; Им это удается, несмотря на неподготовленность, на все ошибки,
делаемые ими на пути, поскольку они проходят его не ради себя, а ради всего
Средиземья. Далее путь ведет к Одинокой горе, к "третьему" человеку, которого
составляет головная и нервная система. Перед горой находятся развалины древнего
города Дейла. Это образ 16-лепесткового "цветка лотоса", расположенного в
области гортани. Некогда, в эпоху древней Индии, этот "лотос" был полон жизни,
и благодаря ему люди обладали ясновидением (Дейл, кстати, созвучен с Дели). По
мере возрастания силы рассудочного мышления (дракона) "лотос" мерк и
ясновидение угасало. Будда дал учение о восьмичленной тропе, следуя которой
люди вновь разовьют этот "лотос", но уже исходя из сил индивидуального сознания,
путем спиритуализации последнего, а также благодаря укреплению сил сердца,
братской любви к ближнему. Все это отражено в сказке в виде коллизии между
Бэрдом, бургомистром (корыстью), гномами и др.
Путь из кровеносной системы в
нервную ведет через "потаенную дверь". Иными словами, здесь нужно подняться от
пранайамы к более высокой ступени посвящения, носящей чисто духовный характер.
На ней ученик оккультизма приближается к спиритуальной сущности мышления
(попадает в "тысячелепестковый лотос"). Дракон живет в отражательной
способности мозга (хотя сам он - духовное существо), и потому не может
непосредственно напасть на Бильбо и гномов. Он решает добраться до них тем же
путем, по которому они пришли, и нападает на Эсгарот. Но силы сердца (Бэрд)
убивают его. Тогда между умом и сердцем начинается распря за сокровище
(спиритуальное мышление, в котором чистая мысль пронизана волей и чувством). С
Железных холмов (мозговые извилины) приходят гномы во главе с Дейном -
двоюродным братом Торина. Это мир рассудочных понятий, вступающий в спор с
доводами сердца. В именах Дейна и его отца Нейна обыгрываются разные аспекты
личностного начала в человеке. В Торине, как мы говорили, выражен образ "я".
Дейн - это немецкое dein, "твой". Так возникает отношение:
я - ты (твой). Идя от него назад, приходим к nein
(Нейн) - "нет", т.е. к групповому сознанию.
Бильбо и гномы прошли через мир
инстинктов и личных несовершенств, не облагородив его. И теперь он является на
последний бой, чтобы стянуть сокровище спиритуального мышления к себе, в низшую
сферу. Но дело при этом обстоит еще серьезнее. Антропософия учит, что проходя
через три ступени сверхчувственного познания: имагинацию, инспирацию и
интуицию, - ученик переживает на высшей из них встречу с миром своих неизжитых
отрицательных качеств, коренящихся в непросветленной сознанием части
астрального тела. Этот мир как бы внезапно распахивается перед посвящаемым, и
он должен дать ему отпор, отразить его натиск; на языке оккультизма это
переживание можно назвать "нисхождением во ад" собственной души; праобраз его
дал Сам Христос Иисус Своим деянием, совершенным в страстную субботу. Для
ученика оккультизма здесь возникает колоссальная опасность обратить плоды
посвящения на служение своей низшей природе. Однако чаще всего бывает так, что достигший
ступени интуиции имеет достаточно сил, чтобы справиться с этим испытанием. На
помощь ему приходит сам мир мыслесуществ и окрепшие воля и чувство ("пять
воинств" в сказке Толкиена). В войне с гоблинами и волками Бильбо и гномам
опять помогают орлы. Но от ран умирает Торин (что он является представителем
спиритуальной культуры Центральной Европы, - это обстоятельство особенно важно
для трилогии). Под горой поселяется Дейн. В его задачу входит восстановить
Дейл, идя путем любви и сострадания, которым учил еще Будда. На этом пути
человек должен научиться самоотречению, отказу от эгоистических проявлений
своего "я", но не за счет возврата к групповому сознанию, а возвышаясь над узко
личностным; он должен научиться вместо "мое" чаще говорить "твое"!
На могилу Торину кладут волшебный
меч Оркрист. Вторая часть его названия, "крист", позволяет сделать
предположение, что Толкиен здесь намекает на крестную смерть Спасителя и Его
Воскресение.*
* Толкиен говорит, что Оркрист в переводе означает "Сокрушитель
гоблинов". Гоблины во "Властелине колец" получают название орков, произведенное
от имени римского божества смерти и царства мертвых Огсив. Таким образом,
название меча (символизирующего "я") мы могли бы перевести как "Христос, или
христианин, побеждающий смерть".
К числу больших удач Толкиена
следует отнести созданный им образ ученика оккультизма, споткнувшегося на
эзотерическом пути, Голлума. Во всей мировой литературе, пожалуй, нет другого,
даже сравнимого с ним персонажа. Голлум застрял в сфере воли (во Мглистых
горах), подменив стремление идущего к посвящению обрести господство над собой
желанием господствовать над другими. Совершивший подобную ошибку оккультист
попадает во власть своих страстей и духов зла, лишается собственной воли,
собственного "я". Поэтому Голлум обращается к себе либо в третьем лице, либо во
множественном числе. "Мы" - это его пороки, рабом которых он стал. Но в образе
Голлума есть еще одна исключительно важная черта. По происхождению он - хоббит.
Обитая в темных пещерах Мглистых гор, он обладает Кольцом Всевластья, хотя
употребляет его весьма своеобразно: ловит с его помощью гоблинов (страстишки) и
питается ими. По его словам, Кольцо это ему подарила бабушка на день рождения.
Эта бабушка (Хоббитания времен колониальных завоеваний) "была женщина властная
и хозяйственная, - говорит Гэндальф, - но чтобы в ее хозяйстве водились кольца
всевластья - это вряд ли". И Толкиен дает историю того, как Кольцо попало в
лапы к Голлуму. Подобно Кольцу Нибелунгов, его нашел в отдаленном прошлом
Деагорл, брат Голлума, в великой реке Андуин, протекающей вдоль границы между
Востоком и Западом. Голлум задушил брата и отнял Кольцо, и произошло это в день
рождения Голлума. Сделано же это Кольцо было далеко на Востоке. Иными словами,
идея мирового господства, как считает Толкиен, сложилась в результате
поляризации Востока и Запада. Процесс их размежевания имел не только
культурно-исторический, но и оккультный характер. Укрепившись в Средиземье,
Хоббитания стала искать своего отношения к науке посвящения, родиной которой
прежде всегда был Восток. В процессе этого поиска некая часть, скажем,
англосаксонской сущности споткнулась и набрела на восточную идею всевластья;
нашла Кольцо и соблазнилась намерением употребить его на служение не всему
миру, а собственным эгоистическим (можно также сказать, узконациональным)
интересам. Во времена "бабушки" еще не все в Хоббитании понимали это, но Голлум
уже существовал как реальность, и власть над ним имели другие, вовсе не
заинтересованные в истинном прогрессе человечества силы.
Дальнейшая история Кольца Всевластья
образует главную сюжетную линию всей трилогии "Властелин Колец". В ней события
выходят на широкий мировой план, но развиваются по той же схеме, что заложена в
"Хоббите". Только теперь эта схема действительно наложена на географический
план и сориентирована по четырем сторонам света, главным же образом - с запада
на восток. Кроме того, если в "Хоббите" она была приведена в связь с трехчленным существом
человека, то в трилогии она как бы проектируется на трехчленную природу
человечества. На ней западноевропейские народы помещаются в сфере воли,
славянские (и возможно часть немецкоязычных) - в сфере ритма, а народы Востока
- в головной сфере. Меняется в этой связи и принцип посвящения. На смену
древнеиндийской мысле-инициации приходит европейская воле-инициация. Перед
битвой пяти воинств (пентаграмма - это микрокосмический знак человека) за
отнятые у дракона сокровища, как сказано в первой части трилогии, Черный лес,
или Лихолесье, был очищен Советом Светлых Сил (под ним следует понимать Совет
европейских посвященных). Значение этой области почти сходит на нет, и герои
движутся в основном импульсами воли, выступающей на внешнем социально-политическом
плане, и одновременно проникающей в мир действующих за ним оккультных сил. Мы
не назовем этот путь христианско-розенкрейцерским (хотя в основе его также
лежит посвящение воли), но его находит особенно близким для себя
англосаксонская сущность по причине преимущественного развития в ее
инстинктивной сфере души сознательной. Перелом в отношении к принципам
посвящения произошел там уже в ХХ-м веке, и Толкиен красноречиво повествует об
этом.
Действие первой части трилогии,
которая называется "Хранители", начинается, по нашему счету, в 1901 г. К этому
времени на Востоке происходит, как повествует автор, оживление некоей крепости
зла. Еще про Бильбо сказано, что свое странствие (посвятительное) он совершил
"на Восток", и вот теперь там все изменилось: вновь отстраивается Черный Замок
(Клингзора?), и от него по Средиземью расползается "холодный мрак и
обессиливающий ужас". В горах стали множиться орки; тролли сделались хитрее;
были чудища и пострашнее. Все это означает усложнение мира человеческой души, а
вместе с тем - углубление дуализма добра и зла. До поры до времени, говорится в
сказке, "простой народ, конечно, знал об этом маловато". А когда повсюду
"загремели войны", то на запад потянулись гномы "из дальних стран". Озираясь,
полушепотом они говорили про "Врага" и про страну Мордор. Ее властелин, Саурон
некогда обитал в Лихолесье, но теперь перебрался в Мордорский Замок - свою
древнюю крепость. Иными словами, он занял место дракона.
Нависает опасность и над
Хоббитанией. Гэндальф говорит Фродо, племяннику Бильбо: "Это будет большая
потеря для мира, если мрак поглотит Хоббитанию, если все... Булкинсы,
Толстобрюхлы и прочие... станут жалкими трусами и подлецами". Фродо на это
возражает: "А кому нужны такие подданные?" В ответ на подобную наивность
неофита Гэндальф даже не находится, что сказать и отделывается общей фразой о
том, что Врагу нужна Хоббитания, он озлоблен на нее, и месть его будет ужасна.
Однако постепенно мы узнаем, в чем суть завязывающейся в сказке-эпопее
коллизии. Она имеет всемирный, а не только сказочный характер. Это тот, все
возрастающий духовный антагонизм Востока и Запада, который, как об этом уже
давно говорят различные пророчества, приведет в конце концов к мировой войне.
Из русских писателей наиболее впечатляющим образом о ней поведал Вл. Соловьев в
"Трех разговорах", которые он ничуть не был склонен рассматривать только как
игру художественного воображения.
Издревле Восток был хранителем
эзотерической мудрости, которая определяла его духовный приоритет. С развитием
европейской цивилизации духовный "центр тяжести" постепенно переместился на
Запад. И тогда возник глубокий антагонизм в духовной борьбе за водительство
миром, из которого проистекают идеи всякого господства и само господство.
Развитие мира, несомненно, может двигаться вперед путем взаимного обогащения
различных его частей. Не все народы в равной мере поспевают за этим развитием.
Более того, чтобы одни могли уйти вперед, другие временно должны отстать.
Таковы законы эволюции. Но тогда тем больше имеется оснований для взаимопомощи,
чем для антагонизма. Но в мире, и на Востоке, и на Западе, есть силы,
выступающие за удержание прошлого в неизменном виде, так что оно превращается в
невозможный анахронизм; кто-то при этом жаждет "остановить мгновенье",
увековечить его. Эти силы борются не только со всем новым, что по-доброму и на
благо человечеству приходит в мир, но и между собой. Мировые трагедии нашей
цивилизации вырастают не только из борьбы добра со злом, но и из борьбы между
собой различных форм зла, где не бывает победителей, а только смерть и
разрушение. Не вникая в подробности этого большого вопроса, мы только хотим
отметить, что тотальный конфликт между Востоком и Западом не является
неизбежным; однако, если миновать его не удастся, Запад должен будет всеми
силами защищать свои духовные ценности, дабы человеческая цивилизация не ушла
на совершенно ложные пути.
Но последуем за Толкиеном, за его
интерпретацией данной мировой проблемы. Вводя в повествование Кольцо
Всевластья, он совершенно правильно подчеркивает доминирующую роль оккультного
в противостоянии Востока и Запада. Со стороны Запада в этой борьбе на первый
план выходит Хоббитания. И это понятно, если вспомнить все, что нами уже
говорилось об эпохе души сознательной. Но довольно непоследовательно
интерпретирует это Толкиен. Кольцо Всевластья, говорит он, случайно (и кроме
того преступным образом) попало к Голлуму, ибо "бабушка" его была хоть и
"хозяйственная", недалека от идеи всевластья. Далее Кольцо опять случайно (хотя
и не без воли Провидения) оказывается у Бильбо. Но ему удается преодолеть
искушение. Он передает его племяннику Фродо и тем избегает судьбы Голлума.
Всеведущий духовный попечитель Хоббитании, маг и волшебник Гэндальф, долгое
время даже не подозревает о том, что Кольцо в Хоббитании. А между тем в этом
Кольце - вся судьба мира! Ибо Саурон вожделеет лишь одного: захватить Кольцо,
без которого всякая власть над миром иллюзорна, поскольку лишена поддержки того
патрона, что сам пребывает на сверхчувственном плане, но стремится завладеть
человечеством на плане физическом, куда непосредственного доступа ему нет, а
только через тех людей, которые соглашаются ему служить. Так возникает некая
"разномасштабность" в сюжете сказки. Она вполне правомерна для сказки, как мы
ее назвали, органической, где "случай" всегда означает вмешательство высших
сил. Другое дело у Толкиена, где все до мельчайших подробностей обдумано. В
цепи указанных несоответствий, вне всякого сомнения, просматриваются идейные
установки самого автора.
В то же время, взгляд Толкиена на
саму идею всевластья вызывает лишь самое горячее сочувствие. Он считает, что в
мире должно существовать много колец: во-первых, у семи главных европейских
народов, которых он называет "гномами", поскольку они пришли в наиболее тесное
соприкосновение с земным планом жизни. Обладание кольцом для каждого из них
означает способность вносить свой неповторимый вклад в освоение этого плана, в
приспосабливание его для общечеловеческого развития. Во-вторых, кольцами должны
обладать девять восточноевропейских народов. Они потому названы "людьми", что
еще не вполне сошли на физический план, слабо владеют его отношениями. Своим
обликом и физической силой они напоминают древнегреческих героев, подобно им
прямолинейны, простодушны и непосредственны. Они не вполне способны понимать
задачи нового времени. Для этого необходимы другие качества, которыми, как
считает Толкиен, обладают гномы и хоббиты, а особенно - их посвященные При этом
хоббиты превосходят гномов гибкостью и подвижностью ума, поскольку не страдают
чрезмерно односторонней привязанностью гномов к материальному миру. В этой
расстановке сил задача "людей" состоит, как опять же об этом говорит Толкиен, в
служении гномам в их "горном" труде, а в общем, как следует из дальнейшего
повествования, и всему Средиземью в его борьбе с Мордором: прежде всего "люди"
вступают с ним в физическую войну, а также несколько ранее побеждают изменника
Сарумана. Три кольца эльфов - это три ступени западного посвящения, которое приходит
на смену восточному.
Такое распределение колец между
народами несет миру гармонию и уравновешенное развитие. Кольцо же Всевластья
необходимо Саурону для того, "чтоб разъединить их всех, чтоб лишить их воли и
объединить навек в их земной юдоли под владычеством всесильного властелина
Мордора". В подобном намерении обнаруживается по преимуществу природа
ариманических сил, действующих, главным образом, на Западе, а не на Востоке,
где люциферические посвященные хотят лишь пресечь развитие человечества на
физическом плане, ибо благодаря реинкарнациям люди уходят из-под их власти. Но
в образах сказки содержится и нечто от той реальности, в которой Ариман и
Люцифер протягивают один другому руки. В целом же характер Мордора (его
название произведено от английского слова murder - "убийство") таков, что он абсолютно враждебен всякому
индивидуальному началу в человеке.
В борьбе со Средиземьем, где люди
идут к развитию индивидуального я-сознания, Саурон привлек на свою сторону
немало народов Востока, сделал из них своих покорных служителей. Устрашающий
образ орка - врага культуры, разрушителя не только настоящих, но и прошлых
духовных ценностей, - большая удача Толкиена как писателя. Властителям орков
Саурон раздал те девять колец, которыми должны были владеть "люди" Средиземья
(соцстраны?). Но и у гномов он отнял три кольца, т.е. проник в их
земно-духовную деятельность (вспомним, что было сказано о союзе некоторых
гномов с гоблинами); с другой стороны, четыре кольца отняли у гномов "драконы"
абстрактного мышления. Таким образом, в мировой расстановке сил с возникновением идеи
всевластья народы теряют свой самобытный характер и унифицируются абстрактными
установками, проистекающими из сфер чуждых человеческой эволюции сил.
Только три кольца эльфов (идеалы
посвящения), как полагает Толкиен, еще не осквернила рука Саурона, но в случае,
если ему удастся захватить Кольцо Всевластья, то не уберечь и их. Следует
вообще сказать, что во всей истории борьбы за Кольца, в описании их качеств,
выражены различные аспекты борьбы люциферических и ариманических сил за
человеческое сознание, за его деиндивидуализацию не только в земном, но и в
космическом аспекте. Однако, мы не можем подробно входить в рассмотрение этого
обширного вопроса. Заинтересованный читатель пусть исследует его сам, обратясь
к соответствующим духовнаучным сообщениям Р.Штайнера. Что же касается сказки
Толкиена, то в ней этот вопрос получает необычайно яркое, образное выражение.
Итак, конечная цель, к которой
стремится Саурон, - это полностью оторвать человечество от всякой связи с
духом, навеки приковать его к "земной юдоли", к физическому миру, а поскольку
материя не вечна, то ввести его в некое призрачное бытие и там увековечить свое
царство. В Антропософии говорится о так называемой "восьмой сфере", где
физическое может пребывать вне материального.103 Выступающие в
трилогии назгулы - это уже фактически жители той самой сферы.* Связь с
материальным миром у них происходит только через мышление (материальные кони),
но они не владеют им индивидуально, и в конце концов Властелин Мордора дает
этому мышлению своего носителя, который имеет вид ископаемого птеродактиля, или
ужасающей пародии на орла.
* Служение Кольцу Всевластья ведет человека в восьмую сферу,
потому призрачна его способность делать человека невидимым. Оно как бы
растворяет индивидуальное во всеобщем, делает человека "невидимым" как
индивидуальное существо, и вместе с тем ясновидящим
Таков Саурон. И если в нем самом
мы видим лишь ариманические черты, то природа Кольца вмещает в себя нечто
большее. В нем обнаруживаются черты, вызывающие в памяти Великого Инквизитора.
Гэндальф говорит о Кольце: оно "знает путь к моему сердцу, знает, что меня
мучит жалость ко всем слабым и беззащитным, а с его помощью - о, как бы надежно
я их защитил: чтобы превратить потом в своих рабов". Так искушается Запад,
христианский Запад. Но Толкиен сводит все лишь к одной полярности, где Восток
превращается в носителя абсолютного зла, а Запад - добра. "Тьма с Востока", -
говорит Бродяжник. Это, фактически, данная с обратным смыслом древняя формула:
"Ex orient lux" - свет с Востока. На борьбу с этой тьмой и поднимается
все Средиземье.
Прежде всего, в некоей средиземной
стране, названной Раздел, собирается Совет Посвященных. Чтобы попасть на него,
Фродо и его друзьям приходится пройти через ряд испытаний. В отличие от
"Хоббита", движение хранителей Кольца в трилогии происходит одновременно и
посвятительно, и по вполне определенному географическому маршруту. Так,
например, Вековечный Лес и его житель
Бомбадил* означают, одновременно, и мир эфирных сил (повышенная жизненность
деревьев, а с другой стороны - "умертвия"), и Скандинавию, где в какой-то мере
еще сохраняется связь с элементарными духами природы.
* Его имя, возможно, образовано от имени римского божества земли,
леса, растительности вообще - Bona Dea.
Оккультные испытания хранители
проходят и на социальном плане. Они попадают на Постоялый двор в Пригорье. Там
уже вовсю рыщут всадникипризраки Саурона. Есть у них свои люди и из местных -
Бит Осинник. Кто-то заслан из других стран. Некий южанин, косоглазый и уродливый,
предсказывает в ближайшем будущем нашествие с юго-востока. "И место им, -
говорит он, - пусть будет приготовлено заранее, а то они его сами найдут.
Жить-то надо, и не только иным прочим!" Высказывание, заметим, далеко не
сказочное. Через Пригорье движутся переселенцы с Востока. Земля "горела" у них
под ногами, и они искали новых мест. Пригоряне же надеются, что беда их
обойдет; такое же настроение и у хоббитов. И напрасно! Черные всадники,
вынужденные однажды бежать из Пригорья на виду у всех, так рассуждают между
собой: "Пусть себе злится мелкий народец! В свое время Саурон с ним
разберется". - Это опять не сказка.
Попав в Трактир, Фродо и его
друзья не выдерживают стоящего перед ними испытания. Они впадают в болтливость
(свойство, не допустимое для оккультиста) и тем осложняют весь свой дальнейший
путь до Раздола. Им, возможно, вообще не удалось бы туда добраться, если бы на
помощь не пришел Бродяжник (Арагорн). Это норманнский Посвященный. Может
показаться странным, откуда взялся такой персонаж, если речь идет о новейших
временах. Ведь норманнов, скажет кто-то, уже не существует как народа. Дело,
однако, в том, что сказочные образы Толкиена - это представители различных
духовных сил не только настоящего, но и прошлого развития человечества. И,
действительно, мы часто наблюдаем, как вполне реально живет в нашем времени
духовное наследие прошлого. Сказочный характер сюжета позволяет Толкиену
строить на этой основе целое народоведение, правда, не лишенное
односторонностей в силу национальной суженности британского оккультизма. У
Духов народов имеются двойники, и оккультист, устоявший перед искушением
обратить свои достижения себе на пользу, может подчас отдаться склонности
рассматривать мировые интересы через призму своего народа. Насколько тонкой
может быть эта подмена, хорошо показывает цикл рыцарских романов Томаса Мэлори
"Смерть Артура", где повествуется о рыцарях Круглого Стола и Святом Граале.
Создав высокоспиритуальное произведение, Мэлори не устоял в главном: заменил
действительного, немецкого хранителя Св. Грааля Парсифаля английским -
Гаваином.
Предвидя недоумение читателя,
Толкиен сам устами Фродо ставит вопрос: "Значит, их род (Арагорна) до сих пор
не угас?" А Сэм уточняет: "Он из Глухоманья?" И вот перед нами разворачивается
в иносказательной форме учение об арийской расе, о переселении народов. За
образом Глухоманья можно распознать ту область, где ныне находится пустыня
Гоби, и куда в далеком прошлом ушли
переселенцы из Атлантиды, ведомые Ману. Часть из них позже вернулась назад, в
Европу, и заселила ее север. Это был, в терминологии Толкиена, Большой Народ.
Его король - Элендил Высокий. Два его сына, Исилдур и Анарион, основали два
могущественных княжества: одно на севере - Арнор, другое на юге - Гондор. Здесь
в повествовании Толкиена встают реминисценции русской Начальной летописи. В
детях Элендила мы узнаем Рюрика и его сподвижников, в основанном ими северном
великом княжестве Арноре - Новгородскую Русь, в южном, Гондоре, - Киевскую
Русь. Гондор своими восточными границами прилегает к великой реке Андуин.
Области на другом берегу Андуина названы Итилендом. Итиль же - древнее название
Волги. Поэтому Итиленд (land- по-английски означает "земля",
"страна") означает не что иное, как Поволжье. Для гондорцев Исилдур и Анарион -
пришельцы "из-за моря", которых они сами позвали на помощь. Арагорн назван
"рыцарем из Заморья", он отдаленный, но "единственный и прямой" наследник
Исилдура, т.е., получается, самого Рюрика. Когда хранители плывут по Андуину,
Арагорн в одном месте, где им встречаются каменные изваяния древних воинов,
вдруг преображается. Фродо смотрит на него с восхищением, и ему представляется,
что он видит перед собой короля, "возвращающегося в свое королевство". О
древних правителях южного княжества сказано, что последний из них, Мелендил
(Святослав?), сын Анариона (Игоря?), внук Элендила, умер без наследников
(Владимир был "сын рабыни") и род князейнуменорцев (новгородских) там угас.
При чтении трилогии Толкиена не
следует искать в ней совсем буквальных аналогий. Автор довольно свободно
сдвигает и раздвигает исторические эпохи, географические области, культурные
потоки, этнические взаимосвязи, хотя и остается при этом в рамках принятых им
оккультных учений об эволюции человечества. Поэтому Гондор, с одной стороны,
выступает как единое государство, в центре которого возвышается "Звездная
Цитадель" (Кремль), а с другой - как сила, издавна противостоящая натиску
Мордора, и в этой связи Гондор - лишь часть некоего комплекса сил, слагавшихся
исторически к западу от Андуина. В повествовании Толкиена разновременно
действовавшие силы выступают одновременно и при этом вне зависимости от того,
какой они природы - чисто духовной, социальной или просто физической.
Арагорн - один из виднейших членов
Совета Светлых Сил. Но Гэндальф стоит еще выше. Его имя Толкиен также берет из
германской мифологии - Gandalfr, где оно относится,
одновременно, и к гному и к эльфу; от древнегерманского "alfr" произошло слово "эльф". Толкиен не случайно дает такое
имя англосаксонскому Посвященному. Он изображает его родственным как гномам,
так и эльфам, возводя его магическое достоинство к персонифицированным в образе
эльфов истокам спиритуальных традиций всеарийской культуры.
Эльфы, надо сказать, - наиболее
загадочные существа в сказке. Причина этого кроется в многозначности их образа.
В одном отношении они, в прямом смысле слова, духи воздуха. Древние греки
ясновидчески созерцали их проносящимися в порывах ветра,
шелестящего вершинами деревьев. Что-то от духа античности, от духа ее Мистерий,
перешедшего в пятую, современную культуру, содержат в себе эльфы и у Толкиена.
В другом отношении их образ - обобщенное, обширное оккультное наследие всей
арийской расы, уходящее своими корнями в седую древность Индии, и в то же время
еще довольно актуально отражающееся в идеалах посвящения новой эпохи. Арийские
народы расселились в самых разных частях Европы, поэтому мы встречаемся у
Толкиена с разными типами эльфов. В целом же их бытие носит скорее
сверхчувственный, чем непосредственно физический характер. - Когда Бильбо
вернулся из своего похода "на Восток", то потом он часто "ходил в гости" к
эльфам (занимался пранайамой), за что "здравомыслящие" соотечественники считали
его тронутым. Царица страны эльфов Лориэна Галадриэль говорит Сэму: ты видел
нашу страну зимой, "ибо наше лето давно миновало"; а сама она выглядит
"неизменно юной и вечно прекрасной жительницей давно ушедшего прошлого". Три
Кольца эльфов (ступени посвящения) бессильны на поле физического сражения. Они
помогают, пишет Толкиен, познавать мир, творить добро, сдерживать зло,
зародившееся в жителях Средиземья, когда начались войны за власть.
Выше Гэндальфа в Совете Светлых
Сил стоит Саруман - Державный Властитель Колец и Соцветий. Это Посвященный
немецкоязычных народов. В его образе выражена совокупность их духовных сил.
Толкиен сначала отдает им предпочтение, признает их приоритет перед англосаксонскими
посвятительными устремлениями: Саруман с давних времен - глава Совета. Но этот
немецкий посвященный, несмотря на всю свою высоту, падает жертвой влияния,
идущего из Мордора. Он говорит Гэндальфу: "наступает время Большого Народа (6-я
культура?), и мы призваны им управлять. Но нам необходима полнота всевластья,
ибо лишь нам, Мудрейшим из Мудрых, дано знать, как устроить жизнь, чтобы люди
жили мирно и счастливо... На Земле появилась Новая Сила... мы должны поддержать
Новую Силу". Под этой Силой он имеет в виду то, что идет из Мордора. Таким
образом, в словах Сарумана слышны отголоски нацистской идеологии с ее громким
пустословием и извращенным толкованием расовых проблем. Саруман пользуется
понятиями, принятыми в среде цивилизованных народов: мир, счастье,
благоденствие, но вкладывает в них иной, "мордорский" смысл. Он так прямо и
говорит, что некий Новый Порядок есть конечная цель Новой Силы. Так Саруман
оказывается предателем Светлых Сил и пособником Саурона. Но до поры до времени
он скрывает свои намерения. Ему удается заманить к себе Гэндальфа и на короткое
время устранить его из борьбы с Сауроном. Но вскоре с помощью орлов Гэндальф
бежит из саруманова плена. Саруману объявляется война. Сокрушительный удар в
ней ему наносят некие энты - жители лесов. В их образе можно видеть
персонификацию издревле сохраненной духовной силы славянства, языческой по
своей природе, все еще пребывающей в родстве с элементарными силами природы. В
преданиях говорится о племени антов, в которых предположительно видят предков
славян.
Побежденного Сарумана (а война с
ним выглядит лишь небольшим эпизодом на фоне войны с Мордором) решено стеречь в
семь раз дольше, чем он мучил
окружающие народы.* Гэндальф говорит ему в заключение: "Смотри, я больше не
Гэндальф Серый... Я - Гэндальф Белый, вернувшийся из мрака (борьбы с орками и
еще более ужасными подземными силами зла). А ты - ты стал бесцветный, и я
исключаю тебя из Совета и из Ордена!"
* 1939 - 1945 = 6; 6 х 7 = 42; 1948(9) + 42 = 1990 (Прим. 1990
г.).
У Сарумана был в
Средиземье союзник, некий Грима Черный. Прежде он духовно порабощал правителя
Рохана (Польши?), внушая ему ненависть к эльфам, иначе говоря, к оккультизму.
Будучи разоблаченным, он бежал к Саруману и во время войны оставался на его
стороне. Вероятно в этом образе дано указание на теневого двойника католицизма.
На Совете Светлых
Сил, который созывается ввиду возрастающей опасности со стороны Мордора,
приглашается один из сыновей правителя Гондора, или, скажем, русский
Посвященный - Боромир. Под Посвященным того или иного народа не следует непременно
подразумевать конкретную личность. Он является неким праобразом, выражающим
собой саму суть посвятительных устремлений, какими они могут представать в
мире, проистекая из духовных особенностей народа или группы родственных
народов. В отдельные моменты появляются и конкретные люди, воплощающие в себе
этот праобраз; через них он приходит в связь с физическим планом, инспирирует
его, напечатлевает ему образцы для подражания.
Боромир ведет
себя на Совете как типичный "славянофил" в расхожем понимании этого слова. И
заслуживает особого внимания такая трактовка этого образа Толкиеном, который в
данном случае выражает отнюдь не частное мнение. "Мы одни, - говорит Боромир, -
заслоняем Запад от Моргу ла (главная крепость Мордора)... подумайте, что ждет
западные земли, если враги прорвутся за Андуин!" На это Арагорн возражает ему:
Вы защищаете свои границы, а не Запад, "мы же - странники пограничного
Глухоманья (т.е. оккультные борцы) - боремся со всеми темными силами"; темных
союзников Мордора всегда и неизменно встречали арнорцы. Так трактует Толкиен
роль норманнского импульса на Востоке Европы. Несколько позже еще решительнее,
чем Арагорн, Гэндальф урезонивает самого правителя Гондора, говоря ему: Вы
думаете лишь о своей стране; будь Кольцо у вас, оно бы овладело вами, и тогда
нас ждало бы нечто более страшное, чем то, что идет теперь.
Не станем
углубляться в этот большой и спорный вопрос, тем более, что слова Гэндальфа
обращены не столько к гондорцам, сколько к их правителю. В сказке же Толкиен
подкрепляет мнение Гэндальфа поведением Боромира. Тот соблазняется желанием
завладеть Кольцом Всевластья и едва не отнимает его у Фродо. Вслед затем он,
правда, раскаивается в своем поступке и ценой жизни смывает пятно позора:
гибнет от стрел орков, защищая хоббитов.
Но все это
происходит позже, в процессе выполнения миссии, которую Совет Светлых Сил
возложил на Фродо. На Совете же принимается решение отнести Кольцо в Мордор и
бросить его в кратер вулкана - единственное место, где оно может расплавиться,
- дабы навсегда уничтожить его страшную силу. Иными словами этот замысел можно
выразить так: идея всевластья, а равно и сама его возможность были внесены в
социальную жизнь людей недобрыми
сверхчувственными, пребывающими во внутреннем Земли адскими силами. Идею
всевластья можно искоренить лишь вернув ее назад. Сделать это, естественно,
можно только оккультно, на пути, по которому все человечество движется к
посвящению. Об этом можно еще сказать так: исходя из самосознания человечества,
необходимо отвергнуть ложную идею темных сил, донеся до их сферы нежелание
человечества идти их путем, т.е. сказанное на Земле "нет" должно стать фактом в
сверхчувственном мире, а не только тенью в головах людей. Вот почему хранители
несут Кольцо в Мордор, и делает это в первую очередь, как и в "Хоббите",
"средний" житель Средиземья, хоббит Фродо, племянник Бильбо. Он - "средний"
представитель человечества. Председательствующий на Совете Эльронд говорит: "от
слабых невысокликов из мирной Хоббитании зависит судьба Средиземного мира".
Заканчивается рассказ о Совете
Светлых Сил (Ордена - как его называет Гэндальф) такой фразой: "Не все, что
обсуждалось на Совете Эльронда, надобно пересказывать в нашей истории. Сначала
речь шла об окраинных землях...". Высказывание это, надо опять заметить, не
сказочное. И косвенно все-таки можно составить себе представление о том, что
еще там обсуждалось!*
* Восклицательный знак 1992 г. - Авт.
Но мы пойдем вслед за сказкой.
Присутствующие на Совете хоббиты уже прошли через ряд испытаний и после
заседания Совета встают на посвятительный путь, сопряженный с трудным и опасным
служением человечеству. Им надлежит перейти на сверхчувственный план - попасть
в Лориэн, но дорогу туда, как и в "Хоббите", преграждает мир неочищенных
страстей. Лориэн - страна скрытая, говорится в сказке, смертному входить туда
опасно; немногие возвращались обратно, оставаясь прежними. Время там не
движется (становится пространством? - тогда это астральный мир).
Интересно отметить как подобия,
так и отличия в маршрутах, которыми движутся герои "Хоббита" и "Властелина
Колец". Лориэн частично соответствует Замку Эльфов, но представляет собой уже
целую страну. Черный Лес отходит на задний план. Он хотя и оставлен на карте,
но в тексте трилогии не играет никакой роли. Иной характер носит и движение по
пещерам сквозь Мглистые горы. Таящиеся в них опасности вырастают до масштабов
целого мира ариманических сил, связанных с внутренними сферами Земли, где
действительно таится магия зла. Эта часть маршрута напоминает сцену нисхождения
Фауста к Матерям, после которого он обретает Елену Прекрасную. Так и наши
путешественники, пройдя сквозь горы под охраной Посвященных (Фауст ходил один),
выходят в мир античности: после пережитых ими снежных бурь на одной стороне
гор, на другой их встречает теплая страна; они видят колонну с разрушенной
капителью; остатки статуй по краям дороги.
Хотя на карте маршрут пролегает с
запада на восток, из текста мы получаем впечатление, что хранители движутся с
севера на юг; более того, - что они проходят под Альпами, а потом, после
Лориэна, плывут по Дунаю к Черному морю. Здесь имеется одна любопытная деталь.
О Черноречье в сказке говорится, что оно получило свое название, видимо,
случайно: первые, кто посетили его и дали
ему название, увидели его в плохую погоду. Точно такая же версия рассказывается
о происхождении названия Черного моря. И еще один, так сказать,
спиритуально-географический образ возникает в данном месте повествования. На
указанный маршрут словно бы накладывается еще один, по которому хранители
проходят уже не под Альпами, а сквозь арабский мир, вернее, сквозь его
заземленную магию, и попадают в мир древней Индии - колыбель арийской
цивилизации.
Далее характер движения меняется:
оно начинает возвращаться из прошлого в настоящее. В географии маршрута
возникает некий скачок, хранители оказываются где-то на севере России и плывут
по Андуину (по Волге) на юг. От истоков русской истории (где сходятся
спиритуальность древней Индии и древней Греции; см. 2-й и 4-й очерки), откуда
берет свое начало поляризация Востока и Запада, они движутся непосредственно в
наше время (путем "из варяг в греки").
По мере приближения к Мордору
ситуация складывается так, что Фродо остается вдвоем с Сэмом (в Сэме
представлена сущность американского народа, не особенно углубленного в
эзотерику, зато полного энергии и оптимизма в овладении физическим планом, что
ныне также входит в задачу идущего посвятительным путем). Их путь к мордорскому
вулкану полон страшных испытаний, из которых они выходят с честью благодаря
бескорыстной верности и братской любви друг к другу.
Пока Фродо и Сэм тайком
пробираются в Мордор, Гэндальф и остальные хранители прибывают в Гондор и
помогают его войскам вести внешнюю войну с орками и призрачными служителями
Саурона. Война идет с переменным успехом и принимает все более широкие
масштабы. На помощь Гондору приходит Рохан - страна, символизирующая мир
западных славян. Особо в нем выделена роль Польши, а в ней - женский элемент
(Эовин, дочь короля), восходящий к "воительницам Северной страны".* Но армии
Мордора оказываются многочисленнее и сильнее. "Это были, - говорится в сказке,
- люди с Востока, стекавшиеся под знамена своего Владыки". "С далекого юга" к
ним примкнули "чернолицые". Выиграть эту войну вообще нельзя, если миссия Фродо
не будет исполнена. Поэтому вся внешняя борьба с Сауроном служит лишь тому,
чтобы отвлечь внимание его всевидящего Ока от Фродо и Сэма.
* Здесь опять подчеркивается единое происхождение арийских
народов. В этой связи Сэм говорит Форомиру: Вы чем-то напоминаете Гэндалыра. А
тот отвечает: В нас (гондорцах) есть нечто от Нуменора (т.е. как и в
Гэндальфе). Небезинтерссна еще такая деталь: герб Сарумана - белая рука на
черном фоне; такой герб был у Ярослава Мудрого!
Денетора, правителя Гондора,
охватывает паника (чем он как бы еще раз подтверждает правоту гэндальфова
нарекания). Он погружается в черную меланхолию и вознамеривается вместе с
раненым сыном покончить с жизнью, совершив самосожжение. Этот второй его сын,
Форомир, находится без сознания. Он мужественно боролся с орками на восточных
границах и был там тяжело ранен. В отличие от Боромира, Форомира можно назвать
"западником" . Он душой и телом предан Гэндальфу и тот спасает его от обезумевшего
от страха отца.
Последняя часть трилогии
называется "Возвращение Короля" (под "королем" имеется в виду Арагорн). В ней
рассказывается о том, как Фродо и Сэм все же добрались до кратера вулкана. Но
уже на самом его краю Фродо оказывается не в состоянии лишиться Кольца
Всевластья и бросить его вниз. Он надевает его себе на палец. Весьма
своеобразно делу помогает Голлум. Он следовал за хранителями на всем их пути то
тайно, то попадаясь им на глаза, то вредя, то помогая, как это и свойственно
миссии зла в мире. Его вела неутолимая жажда вновь завладеть Кольцом. В
последнее, решающее мгновенье он бросается на уже сделавшегося невидимым Фродо
и откусывает у него палец с Кольцом, но при этом теряет равновесие над краем
кратера и свергается в огненную пучину. И вмиг все изменяется: тьма, до того
покрывавшая небо, рассеивается, оплот Саурона рушится, его армии в страхе
бегут.
Гондор и его союзники празднуют
победу, после чего встает вопрос о власти в Гондоре. Его правитель Денетор
умер. Единственный наследник Форомир отказывается от трона в пользу Арагорна
как единственно достойного и способного носить волшебный Венец пришельцев из-за
моря. Этим Венцом его, "эльфенита", увенчивает Гэндальф. Форомир же получает от
Арагорна, в знак дружбы, в управление Итиленд.
Мы не станем давать общей оценки
концепции Толкиена, и лишь отметим в заключение, что в своей, несомненно,
замечательной сказке он совершенно не отразил той большой опасности, что
угрожает Западу непосредственно в его собственных областях. Ее образует
гигантски возрастающая власть ариманических сил - того же Мордора, - которая в
неотдаленном будущем увенчается инкарнацией самого Аримана. Она, уж точно,
произойдет не на Востоке. С другой стороны, не преуменьшил ли Толкиен силу и
власть Голлума? Но как бы там ни было, окончание трилогии повествует лишь о
возможном будущем, и там оказывается, что Фродо не способен отказаться от
Кольца Всевластья, потому им завладевает Голлум, а свалится ли он при этом в
пылающую бездну - этого никто определенно сказать не может.
* * *
Теперь мы обратимся к самой
значительной сказке Восточной Европы, написанной в XX веке. Таковой является
"Сказка про Ивана-дурака, как он ходил за тридевять земель набираться
ума-разума", или "До третьих петухов" В.М.Шукшина. Но прежде, чем приступать к
ее рассмотрению, хочется, хотя бы совсем вкратце, сказать о творчестве этого
писателя и о нем самом. Как личность, Шукшин был необычайно многогранен:
писатель, артист, кинорежиссер, и во всем незауряден. Кроме того, он прекрасно
знал жизнь с самых разных сторон, глубоко переживал нашу национальную трагедию
своей доброй, широкой, беспокойной душой. Творчество Шукшина представляет собой
редкий для нашего века феномен типично русского мистического реализма. Оно все
пронизано инспирациями Души русского народа. Благодаря ему мы получили
возможность узнать, как смотрит высокое Иерархическое Существо на наше земное
бытие в новейшее время. Его голос, стоит лишь совсем немного утончить слух,
мягко, мощно и мудро звучит из произведений писателя, но не учительски, не
пророчески, а художественно.
Шукшиным написано много рассказов,
и каждый - своего рода жемчужина, совершенно законченное произведение с
необыкновенно яркой образностью, глубоким психологизмом, философией жизни,
умещенными каким-то чудесным образом в малую литературную форму. Когда
перечитываешь эти рассказы один за другим, то создается впечатление, будто вращаешь
многогранное зеркало и смотришься в него разными сторонами своей души. Каждая
грань - новый, самостоятельный срез жизни, данный так, что сквозь ткань
повествования просматривается профеноменологический план. На одних гранях
узнаешь знакомые типы, но прежде не понятые до конца, или понятые однобоко,
ложно; на других гранях встает что-то совсем новое; где-то непременно
встретишься и с самим собой. Все рассказы отличаются глубокой задушевностью, из
них излучается уже забытая ныне доброта в подходе к человеку: совершенно
искренняя и лишенная ложной сентиментальности, надуманности или нарочитой
грубости. Благодаря этому и начинаешь чувствовать, что за художественными
образами рассказов стоит духовное Существо, которому ведомы не только
следствия, но и причины нашего бытия. Через гений писателя оно предлагает
своему народу познать самого себя, и для того разворачивает перед ним панораму
жизни, видеть и понимать которую он уже стал не способен, увязнув в мелочной
кропотливости повседневного существования. Это действительно панорама реальной
жизни, а не ее абстрактно вымышленного или приукрашенного идеала, потому нечего
искать в ней идеальных (в своей сложности или простоте) типов, образцов для
подражания. Но в элементарной ясности ее образов заключена глубокая мудрость.
Через рассказы Шукшина Душа Народа как бы говорит нам, что народное ядро,
несмотря на все испытания ариманизированной цивилизации, остается здоровым, а
вместе с тем жива и надежда, что шестая, славяно-германская культура не будет
сорвана духами тьмы, что из страданий и жертв народа созреет духовный плод.
К Шукшину недоброжелательно
относится определенная часть интеллектуалов, представителей антикультуры,
живущих эстетическими идеалами, вывернутыми наизнанку. Они обвиняют его в том,
что он якобы восславил мужика и принизил интеллигента. Всего за неделю до
внезапной кончины Шукшина киножурнал опубликовал подборку писем кинозрителей; в
которых те выражали свое отвращение буквально ко всему: к режиссерской,
писательской, артистической деятельности Шукшина и даже... к его внешности! Что
отзывы были сфабрикованы, - обнаружилось в момент смерти Шукшина, вызвавшей
неподдельный национальный траур.
В своем творчестве Шукшин был не
на словах, а на деле верен правде жизни. Не его вина, что в условиях, когда материализм
культуры все более обретает уже не мировоззренческий, а темномагический
характер, именно интеллигенция становится жертвой ариманически-люциферической
духовности, оказываясь не способной распознать ее природу, постоянно живя в
ней. Нет у Шукшина ни пренебрежения к интеллигенции, ни желания как-либо
высмеивать или искусственно принижать ее, а лишь сочувствие к ее трагическому
положению, которого простой народ избег по той причине, что так и не подвинулся далее самого
поверхностного соприкосновения с теоретическим и "практическим" рассудком века.
На это, возможно, кто-то с негодованием возразит: так, что же, будем славить
невежество? Но мы уже достаточно говорили на эту тему и не станем повторяться.
Напомним только, что развитие человечества, народов протекает не столь
элементарно, как этого хотелось бы приверженцам социального дарвинизма. И уж во
всяком случае, если и нужно пройти через лужу, то вовсе не обязательно
вываляться в ней, или, чтобы стать личностью, не обязательно торчать со шпаной
в подворотне. Интеллектуальный варвар несравненно хуже темного мужика, ибо
несет смерть культуре. А именно такой, разбойный характер современного
интеллектуализма и вскрыл Шукшин в фильме "Калина красная", который с радостным
потрясением смотрел весь мир Восточной Европы.
Об этом фильме нельзя не
упомянуть, поскольку именно в нем выступают первые ростки того, что
впоследствии нашло свое выражение в "Сказке".* Сказка "До третьих петухов" была
опубликована уже после смерти Шукшина, последовавшей на 45-м году жизни. Эта
сказка рождена из чисто художественной интуиции. Написана она необычайно ярким,
сочным языком, насыщена народным юмором; не обходится дело и без "соленого"
словца. Это вообще сказка не для детей, и вряд ли кому придет в голову
воспринимать ее по-детски. Тема сказки традиционная: об Иванушке-дурачке, но
подана она на современный лад. Оттого и завязка в ней другая. Встарь, бывало,
старшие братья принимали Ивана за дурачка, не понимая, что его глупость перед
людьми есть "мудрость пред Богом". Но как доходило до дела, где пасовал земной
рассудок, Иван показывал себя так, что другим нечего было и думать угнаться за
ним. В иных случаях путь его лежал в "тридевятое царство", где люди, идя путями
посвящения, обретают свою высокую "невесту" - Самодух. Иван в русских сказках -
дурачок ли, царевич ли - всегда есть образ "я", ищущего соединения со своей
высшей ипостасью - с Марьей-Моревной Прекрасной Королевной или с Еленой
Прекрасной. В свое посвятительное странствие Иван всегда отправляется полный
сил и инициативы.
* Романов В.М.Шукшина, в которых он пытается осмыслить русское
прошлое, мы вообще касаться не будем.
Но ..."все смешалось в доме
Облонских". И вот в "Сказке" Шукшина нам предстает иная картина. В роли старших
братьев Ивана мы видим персонажи русских былин и классической литературы. Они
сидят на полках в библиотеке, а внизу за столом библиотекарша Галка ведет
беседу по телефону. Позже в кабинете Мудреца нам предстанет секретарша Милка.
Обе они - словно сестры-близнецы: один и тот же кругозор, интересы, жаргон;
имена их - словно коровьи клички. И в то же время, это представительницы того
самосознания, что со времен Карамзина получило массовое развитие под лучами
французского, а потом общеевропейского просвещения. Галка и Милка - прямые
наследницы "Бедной Лизы",-и на них, видимо, сбылось упомянутое пророчество
Ж.-Ж. Руссо.
Между этим русским настоящим и
русским прошлым - бездна. Литературные герои сидят на полках, и даже тени их
присутствия не обнаруживается в уме библиотекарши Галки. Нет и у
персонажей особого желания эту бездну переступать, ибо за нею - чуждый,
непонятный им мир цивилизованного варварства. Так духовный раскол в русской
жизни усугубляется разрывом культуры во времени. Ивану предстоит сразу
преодолеть и то, и другое. Но решение сделать это возникает не в нем, а у
персонажей под влиянием того ложного духа времени, которого они не понимают.
Это он на рубеже веков внушил им мысль принять прозвище Ивана дураком в буквальном
смысле и тем обречь его на опасное и никому не нужное странствие в поисках
Мудреца, который справкой удостоверил бы, что он не дурак.
Все вместе литературные персонажи
выражают тот духовный итог, к которому пришла русская культура в начале XX
века, когда уже не осталось и следа от былых терзаний интеллигенции по поводу
утраты связи с народом, а зарождавшаяся проблема отчуждения все больше
приковывала внимание русского образованного человека к своему внутреннему,
подменяя самопознание самокопанием. От всего этого не только возрос отрыв
интеллигенции от народа, но в образованных кругах ослабло я-сознание. Иван же
как был фигурой эзотерической, так и остался, что бы ни думала о нем
интеллектуальная элита. У Шукшина он сидит в углу и делает из полы своего армяка
что-то "вроде уха". Он слушает перебранку иным слухом, и в нем встает образ
того, кто ее инспирирует - Люцифера.
В сказке совмещены все три слоя
русского развития: сказочный, былинный и историко-культурный, а в общем - вся
Россия: сущностное "я", профеномены тройственной души и ее социальные типы в
художественном выражении. Мы уже говорили об особом значении образа Ильи
Муромца. Он одновременно выражает и душу рассудочную, живущую врожденной,
инстинктивной мудростью, и принцип единой души, когда "я" обретает опору в
коренящейся в эфирном теле мудрости души рассудочной и, не мучаясь разладом
между мыслью и чувством, восходит в высшие сферы вплоть до Самодуха и так,
постоянно укрепляясь, приводит все три души к высшему единству. Поэтому Илья
больше всех понимает Ивана. Но от его же "плоти" и Бедная Лиза. Только она -
"от низших", Иван же - "от высших". Она, естественно, не пара Ивану. Только
земной эгоизм мог возбудить в людях желание укорениться природой своего "я"
лишь в чувственном мире, навеки связать его с душой рассудочной. Поэтому в
намерении Лизы выйти замуж за Ивана просматриваются цели, которые преследуются
и в избушке Бабы-Яги.
Прафеномен души ощущающей
представлен в "Сказке" не Добрыней, а донским атаманом, поскольку Шукшин
стремится увязать мир профеноменов с социальным планом. Атаман - образ
полубылинный-полуисторический: в былинах фигурирует, например, казак Ермак
Тимофеевич. Для профеномена души сознательной Шукшин в своей сказке вообще
места не находит. Виновата в том сама жизнь.
Соединяя прошлое России с ее
главнейшими культурными феноменами, уплотняя в одной сцене все то, что
противоречиво, а часто и междоусобно заявляло о себе на протяжении ряда
столетий, Шукшин достигает такой насыщенности содержания, что не только слово,
но и каждый жест в нем полны значения. При этом иронический тон является лишь
приемом, призванным снять всякую назидательность, а также смягчить
огромную значимость образов, возникающую при поднятии социального на уровень
профеноменального.
Все персонажи в первой сцене четко
подразделяются по их преемственной связи. Так, определенным родством объединены
между собой Илья, Лиза и Лысый Конторский, а с другой стороны - Казак и
Обломов. В первом случае связующим звеном является душа рассудочная: ее
профеномен и социальные проекции. В "Сказке" подчеркнут тот момент, когда с
наступлением материальной культуры ариманизирующейся душой рассудочной был
захвачен слой простого народа. В нем и образовались "конторские" - в пределах
материального мира умно (лысый) и трезво мыслящие люди, но дальше своего "носа"
видеть не способные. И этим весьма многочисленным слоем была утрачена связь с
народной жизнью. Конторский держит в руках все собрание в библиотеке, а
понимания происходящего у него нет. Когда некто, "явно лишний", замечает:
"Междоусобица!" - Конторский тупо переспрашивает: "А?" Он не знает ни истории,
ни своего народа, ни вообще, откуда что возникает в развитии, и тем не менее
берется им управлять. Сколь много может дать понимание одного этого образа, но
он в "Сказке" не один и далеко не главный.
Профеномен души рассудочной, не
получив правильного воплощения в социальную жизнь, остается парализованным.
Илья продолжает сиднем сидеть "на полке", как это было с ним в былинах до 30
лет. Что ж, выходит Импульс Христа все еще не привел его в движение? Конторский
на Илью покрикивает, а тот только ворчит в ответ. Подчинена Конторскому и Лиза.
Ее литературное прошлое есть некая причина, из которой ариманические власти
произвели нужное им действие, расколов русскую жизнь на части. И беспомощность
перед лицом этих как-будто бы никем в отдельности не желаемых следствий
образует общее настроение собрания в библиотеке.
Казак и Обломов составляют единую
линию развития души ощущающей. В образе Обломова отразился тот тип русского
человека, в котором знание не стало силой, подвигающей к индивидуальному
развитию от души ощущающей к сознательной, а наоборот, будучи неверно усвоенным
и никак не соединенным с жизнью, парализовало силы воли, привело к отказу от
всякой деятельности. Казак хоть и не былинный герой, но он представитель той
исторической эпохи, когда, зародившись в Северной Руси, душа ощущающая
стремилась проложить свой, органически присущий ей путь развития. Далее, по
мере индивидуализации самосознания, душе ощущающей надлежало все больше
упорядочиваться и просветляться светом познания. Заниматься этим должен был
прежде всего образованный слой. Казак не может простить Обломову именно отказ
от решения такой задачи. Не умея умно рассуждать, он своим простым сердцем
чувствует, что Обломов виноват в той судьбе, на которую теперь обрекают Ивана.
Не велик спрос с души ощущающей:
она эмоциональна, вспыльчива. Но и другие оказываются не выше. Возникшая ссора
(как это бывало и в истории) во всех понижает уровень сознания: кто трусит, кто
растерян. Илья, словно вспомнив свой древний бунт против Киевского князя
Владимира, когда сшибал он головки с теремов, подбивает Казака на буйство (не
следует думать, что Шукшин симпатизирует тому, что в
этот момент говорит Илья); Онегин "судорожно" заряжает дуэльный пистолет:
пускай иные силы решат, кто здесь прав! В свои права вступает знакомая всем
стихия "пламени вожделений". Когда же о себе вдруг заявляет новый,
ариманический дух эпохи, то он производит впечатление, схожее с тем, что
возникает в финале гоголевского "Ревизора": все мгновенно замирают, когда
Акакий Акакиевич выкрикивает: "Закрыто на учет". О неприступную твердыню этого
"заклинания" вмиг разбиваются все вековые волны эмоций. Один Конторский
встречает его с пониманием и видимо лишь сожалеет, что сам не догадался
поступить подобным образом. Но для Шукшина важно иное, - что это догадался
сделать Акакий Акакиевич!
По тому же принципу, как и
"закрыто на учет", действует на всех идея отправить Ивана за справкой.
Медиумичная Лиза и сама не знает, откуда у нее взялась такая мысль. Ей ее явно
кто-то подсказал, но подсказал изнутри, и потому в своей интеллектуальной
невинности она принимает ее за свою собственную и упорно настаивает на ней. Здесь
выражен один из главных принципов действия ариманических сил в русской душе
рассудочной, склоняющейся к материализму. В силу своей общей конституции
русская душа и в новой эпохе остается в некоторой мере открытой
непосредственному влиянию духа, и в ее "открытые врата" могут входить также и
бесы, вытесняя духовное достояние древней благочестивой мудрости и предлагая
вместо нее "малевать" свои портреты на иконах-имагинациях высоких мыслесу-
ществ (с подобным предложением бесы обращаются к монахам в сцене у монастыря)*
С другой стороны, переживая в себе, с неким изумлением, явление рассудочных
понятий, русская душа оказывается совершенно не способной различать их
происхождение. В "Сказке" это просто гениально передано в сцене, где стражник,
"опьяненный" стихией своих чувств (внешнее вино там лишь символ), бурно
воскуряющихся от сердца к голове, впускает чертей в монастырь, а потом на их
стороне выступает против Ивана! Да, ариманические силы хорошо разобрались в
этой особенности русской души; теперь остается русским людям разобраться в себе
и в ариманических духах. Не следует думать, что указанная особенность русского
мышления свойственна только простым людям, о ее наличии куда в большей мере
свидетельствуют междоусобные распри интеллигенции.
Традиционно на Руси мысли
черпались непосредственно из сверхчувственного. Они звучали таинственными
рунами в отраженном землею космическом свете. Подобные мысли не требуют
доказательств. Вот почему русские легко склоняются в пользу ясно и определенно,
пусть при этом и догматически, безапелляционно высказанного мнения. И здесь
Ариман получил широкое поле для своих инспираций. Подсказанное им Лизе решение
высказывается ею так, как прежде звучало слово мудрости, приходившее не путем
логически взаимосвязанных умозаключений, а "разом" (за что ратует Бердяев).
Никто не в состоянии обдумать требование Лизы, поскольку неведомо, откуда оно
взялось; никто, кроме Ильи, не замечает, что общее решение склоняется в пользу
наименее духовно зрелого персонажа. "Все задумались", - сказано в сказке. В
действительности же лишь сделали вид, что думают, а на самом деле каждый
обратился лишь к сумбуру своих чувств, надеясь, что оттуда, как откровение, придет
подсказка. Но откровения ведь не приходят в смятенные души, и все остаются с
тем же, что проявляется в Лизе. Противится один Илья - ему все же легче, чем
другим. Он - профеномен. Но и его "добивают" еще одним ариманическим
заклинанием: "сидячая агитация"!
Итак, беспомощность русского
самосознания перед натиском ариманической цивилизации приводит его к измене
самому себе, и тем русская суть обрекается на мучительный опыт самопознания,
получаемый путем страданий в мире некоей "опрокинутой" социальности, в которую
попадает Иван после избушки Бабы-Яги. Меняется весь путь, которым издревле Иван
русских сказок шел к посвящению. Прежде он, полный сил, переживал в имагинации
встречу со своим эго (Баба-Яга или серый волк) и обращал его на служение высшим
целям. Через стоящие над физическим миром, но низшие сферы духа он проходил ко
встрече с высшей духовностью, с Самодухом (см. рис.: путь от точки А вверх). В
"Сказке" Шукшина мир человеческого эго погружается в подфизическую сферу по
причине слишком далеко зашедшего альянса человеческой самости с ариманическим
драконом. В новой эпохе, начавшейся в 1413 г. по Р.Х., все возрастающую роль в
науке посвящения играет социальный план, где, сопутствуемое крепнущим эгоизмом,
совершается освобождение человеческой души от всех оков группового бытия:
родовых, национальных, мировоззренческих. На этот план в 1879 г. Архангел
Михаил окончательно сверг из надземных духовных областей Аримана, и тот теперь
всячески пытается (а готовился он к этому с давних пор) воссоздать некий
негатив социальности, можно сказать, некую "инфернальную социальность",
опускающуюся ниже уровня физического бытия, в подфизическое, которое, как и
надфизическое, носит сверхчувственный характер, но ведет не к высшему духу, а в
8-ю сферу. Прежде культурно-исторический план, на котором развивалась
социальная жизнь, сверху освещался приходившим через откровение духовным
водительством. Но с тех пор, как водительство судьбами мира отдано в руки
людей, Аримап стремится с помощью порабощения отраженных (не сущностных) мыслей
создать некий ложный космос и всецело приковать к нему человечество, низведя
туда в конце концов все физическое (но не материальное, которое прейдет) бытие.
Этот свой "космос" он стремится распростереть в виде некоего "неба" над инфернальной социальностью, и с этого "неба", подражая
деяниям Богов, всецело и непосредственно инспирировать человечество и так вести
его обратно от индивидуального к групповому сознанию. В эти-то сферы
ариманического духа, в некий "Мордор", выражаясь языком Толкиена, и направляется
Иван (от точки А вниз; см. рис.) с единственной, фактически, целью (ему самому
ясной с самого начала): показать зашедшему в тупик русскому самосознанию, что
ходить туда незачем.
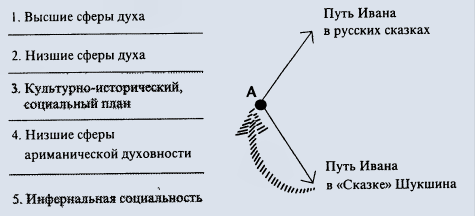
Душа ощущающая, как уже
говорилось, немыслима без эгоизма. Но та самость, которой повседневно в
изрядной мере живет и индивидуальная душа рассудочная, также эгоистична, хотя и
по-другому: не за счет чувства, а за счет особого склада мышления, которое
можно назвать эгоцентричным. Поэтому встреча Ивана с Бабой-Ягой всегда
неизбежна. В то же время, традиционно ее избушка стоит "на курьих ножках", ибо
эгоцентризм в прошлом не имел под собой твердой опоры на русской почве. Иное
дело - новейшие времена. Здесь вся узость души рассудочной пытается
основательно "обстроиться" на физическом плане, и в помощь ей - сам Змей
Горыныч. Вот почему Баба-Яга у Шукшина занята помыслами о строительстве
"коттеджика" - проблемой поистине заполняющей массовое сознание, но на уровне
Яги решаемой глобально, профеноменально. "Строительный материал" ей, несомненно,
предоставил Горыныч, а вот строить на профеноменальном уровне ни он, ни Яга не
могут - им это просто не дано в силу бессущностности их природы. Строить может
человеческое "я". Поэтому Яга старается уговорить Ивана возвести ей то, что по
сути должно стать навеки оторванным от Божественных сфер обиталищем Аримана в
душе рассудочной. Тогда человеческому "я" был бы прегражден путь вверх, и ему
осталось бы только стать "истопником" (вся компания у Яги не имеет собственных
жизненных сил) при коттеджике, поселиться в "подвале" души ощущающей. "Гости
наверху", заскучав порой, мечтает Яга, спускались бы к Ивану поразвлечься его
народностью. А почему бы и нет, если бы им удалось загнать в "подвал" само
Божественное творение! Кроме того, народность изошла от групповой формы
сознания, и Ариман не против нее, если она служит цели не поступательного, а
попятного движения.
Человеческое эго - это
обоюдоострый меч. Для того, кто активен и обращен к добру, оно - помощник; для
тех же, кто пассивен, ленив и зол, в нем таится смертельная опасность. В
старинных сказках Яга начинает задавать Ивану вопросы, но он не отвечает на
них, зная ее коварную природу, а требует накормить себя, попарить в бане, спать
уложить, а потом спрашивать. Этим он пробуждает в ней глубинные силы эфирного
тела, где коренится мудрость. Но в "Сказке" Шукшина Иван, что называется, ложно
сориентирован, поэтому ведет себя в доме Яги пассивно, и та погружает его в
"пламя вожделений", в "печь". Но субстанциональному Я этот огонь не страшен.*
* В некоторых совсем древних сказках герой (не всегда зовущийся
Иваном) также сталкивается с Бабой-Ягой, обитающей в астральном теле человека;
она живет за степной огненной рекой, где-то у моря, ее дворец огорожен тыном с
черепами (интеллект, побежденный Ариманом). Искатель Самодуха приходит к такой
Яге со стихийными силами своих оболочек: физической, эфирной, астральной.
Недобрую метаморфозу претерпевает
в "Сказке" Шукшина и образ дочки Бабы-Яги. Традиционно это Марья-Моревна -
высшее человеческое Я, к которому приходят путем преодоления, возвышения эго. В
этой работе само высшее помогает низшему. Низшая ступень человеческой самости
выражается в эгоистическом переживании отдельности собственного бытия. Но как
ни убого это состояние, в нем коренятся зачатки высшей индивидуальности.
Марья-Моревна учит героя, как обмануть и Бабу-Ягу, стремящуюся с помощью магии
не уступить ее ищущим ее руки, и самого ариманического дракона, Змея-Горыныча,
заявляющего на нее свои права. И вот мы встречаем нечто неслыханное: дочка Яги
выступает заодно со своей мамашей, и готовится выходить замуж за Змея-Горыныча.
Так в творческой фантазии Шукшина отразился тот итог, к которому пришла русская
культура в XX веке. Частично приоткрывшийся тогда Самодух был встречен незрелой
человеческой душой и поставлен на службу низшим побуждениям. Душа русского
народа этим образом дочки Бабы-Яги говорит нам, что духовный декаданс не прошел
без последствий в высших сферах, он отразился на плане профеноменов.
Шукшин своими гротескными образами
довольно точно рисует картину того, что случилось на самом деле. Иван долго
потешается над дочкиными усами, но смех его злой и нервный, готов, того и
гляди, обернуться слезами. Самодух низведен на уровень души ощущающей с ее
неочищенной чувственностью, - вот что такое эти усы на женском лице. И видеть
это Ивану невыносимо, ибо ему в таком случае закрыты все пути в будущее,
поскольку искажен сам принцип эволюции. В своем падении дочка сравнялась с Ягой
по уму. Иван начинает дурачить ее советом, как свести усы, желая показать ей,
до чего она докатилась. Он предлагает наложить на лицо маску из куриного
помета, навоза и глины. Курица - это некая пародия на птицу, на орла - символ
восходящего к имагинациям мышления; рогатый скот, телец, - символ человеческой
воли, его помет - падшая "воля"; глина - это тот "прах" земной, из которого Бог
сотворил человека. Иван, фактически, в пародийной форме предлагает дочке Яги
начать заново всю эволюцию человека от самого начала и этим хочет напомнить ей
о ее высоком происхождении, о том пути развития, который она уже проделала, и
который неповторим, ибо двигаться можно только вперед путем беспрерывного
творчества. Несомненно, мир шукшинской "Сказки" довольно страшен, если по-настоящему
вникнуть в него, но он соответствует правде жизни.
Змей-Горыныч в "Сказке" необычайно
рельефен в социальном смысле. У него традиционно три головы и он замышляет
поработить все три человеческие души, - какими они освоены современным
человеком. Одна голова Змея (кровожадная) нацелена на душу ощущающую, другая
(умная) - на душу рассудочную, третья (не особенно проявленная, она все
обижается на Ивана за его поведение) - на сознательную. Горыныч хорошо знает
Ивана, ибо цель его вожделений - русская душа, а с нею - и вся шестая
культурная эпоха человечества. Для начала он намеревается накрепко привязать
русское "я" к душе рассудочной в ее зачаточном состоянии, абсолютно ему
подконтрольном. "У вас там (в библиотеке), - говорит Горыныч Ивану, - я знаю,
бедная Лиза... прекрасная девушка, я отца ее знал... Она невеста твоя?" На что Иван отвечает: "Кто?
Лизка? Еще чего!" Ибо он понимает, что его истинная невеста пребывает не внизу,
а вверху, в высотах Самодуха. Брак Ивана с Лизой столь же противоестественен,
как и Горыныча с дочкой Яги. Иван и самой Лизе безо всяких церемоний заявляет:
"Я лучше царевну какую-нибудь стрену", за что "бедная" Лиза довольно зло
обещает ему отомстить (но мы уже говорили, чья воля правит в ней). Что же
касается "отца" Лизы, то им до определенной степени является Люцифер,
соблазнивший Адама и Еву вкусить от древа познания добра и зла и тем
подвинувший человека к индивидуализации в душе ощущающей и рассудочной, где его
теперь караулит АриманТорыныч.
Лишь одной своей частью Горыныч
кровожаден, другой - он глубокий психолог и большой интеллектуал. Он понимает,
что к русской душе нужно подбираться фундаментально, входя в народные традиции,
в духовное творчество. И здесь он готов идти вплоть до сопереживания ее
настроений, оставаясь при этом, естественно, ариманическим драконом. У Ивана не
возникает на этот счет ни малейших сомнений, и когда Горыныч заставляет его
петь народные песни, то он поет ему о Хаз-булате. Этой песней Иван намекает
Горынычу, что знает его древнюю природу Змея, восходящую еще к древнеперсидской
эпохе, где тот носил имя Ангра-Манью. А еще он хочет своей песней сказать ему:
Самодух - это юная невеста человеческого "я", которое также молодо; она по
праву принадлежит мне, и потому, смотри, не лишись головы за свои
противоестественные замыслы. Вот почему Горынычу не все нравится в песне. По
поводу ее "жестокости" он делает предложение, почти буквально совпадающее с
тем, которое высказал Д.Ф.Штраус в отношении гетевского Фауста (лучше бы Фауст
стал хорошим инженером, женился на Гретхен и не занимался своими безобразиями).
- Не нравится Змею в песне и ее "сексуальность" (не без иронии употребляет он
это модное словечко, зная, кто его подсказал современной цивилизации), но вовсе
не потому, что Горыныч - нравственное существо. Слишком много свободы, на его
взгляд, содержится в неподконтрольных интимных отношениях людей. Он не против
ослабления человеческого "я" путем внедрения в мир сексуальной распущенности,
но в своем царстве он допускает лишь принцип: мера, число, вес. Он хотел бы
внести его и в интимные отношения людей. Желая дать "образец для подражания",
он говорит своей невесте, вытолкав Ивана за дверь: "Иди сюда... я тебя ласкать
буду". В мире человеческом трудно придумать что-либо более безнравственное, чем
подобное сочетание слов. Наконец, ариманическая природа Змея выражается и в его
последнем поступке, когда он выталкивает Ивана из избушки Яги "со скоростью
звука" в "прогрессивное" бытие инфернальной социальности. Но как ни мучительны
для Ивана издевательства Змея-Горыныча, Шукшин отмечает в них и одну
положительную деталь: они поубавили в Иване кураж, он стал в конце концов
скромнее, серьезнее и, скажем, взрослее. О чем ты задумался? - спрашивает его
Горыныч. Иван на это отвечает: "Как дальше жить... Как соколят растить". И
тогда Змей, вроде бы уже и не враждебно, замечает: "А-а... вот теперь ты
поумнел. ... Чего ты там начал строить из себя?" Иван в ответ молчит.
Вылетев из избушки Яги, Иван попадает
в мир, где даже дороги нету для человеческого "я", а только "звериные тропки".
В этом мире, с одной стороны, выступают: Иван, медведь, стражник, монахи, а с
другой - черти, Мудрец, секретарша Милка. Между обеими группами стоит Несмеяна.
Сначала Иван встречается с медведем - с собственным астральным телом в той его
части, которая преобразуется в душу ощущающую. Оказывается, что оно свободно от
власти Горыныча, только, не имея сил выносить ариманизированную жизнь (чертей),
пристрастилось к вину и табаку. Сам Иван не пьет - в современном развитии
человеческому "я" совершенно противопоказан алкоголь.
Потом Иван встречается с чертями.
Социальный аналог чертей совершенно ясен. - Это тот "авангард" союза молодежи,
который проходит через школу тайной полиции - через адский артистизм Приведем
песню чертей, которая говорит сама за себя:
Мы возьмем с собой в поход
На покладистый народ -
Политуру, Политуру...
С кистенем
Под забором, Под плетнем -
Покультурим.
Не требует комментариев и сцена у
монастыря. Поэтому мы сразу перейдем к Мудрецу. Это ариманизированное существо
выступает как следствие проникновения Змея-Горыныча в культуру души
рассудочной. За псевдонаучным теоретизированием Мудреца кроется намерение
Аримана наложить лапу не только на социальную жизнь, но и на бытие земного мира
в целом. Именно через Мудреца ткет он свое "небо" - мир 8-й сферы. Некогда в
Раю Бог предоставил Адаму право дать имена всем существам природы. В этом
таится причина тесной связи эволюции человека с эволюцией всех царств природы.
Ариман хочет взять на себя эту прерогативу человека, ибо понимает, что в борьбе
с Иерархиями он может захватить либо все, либо ничего. Овладеть человеческим
мышлением, содержанием его жизни - этого мало; необходимо повернуть вспять сам
процесс эволюции. И вот Мудрец ставит резолюции на все, что вне какой-либо от
него зависимости совершается в мире. Авось привьется. А привиться оно может,
если люди поверят в действенность его резолюций. Так стремится он навязать себя
миру, вплести себя в тот его порядок, где места ему нет. Но суть Мудреца
иллюзорна, в нем самом нет истинного бытия. Это обнаруживается, когда он вместе
с Иваном посещает Несмеяну.
В старинных сказках царевна
Несмеяна - определенный аспект Самодуха, который подвержен люциферическому
влиянию. Люцифер враждебен смеху, и рассмешить Несмеяну - значит освободить ее
от Люцифера и соединить с миром земного человека. В инфернальной социальности
Несмеяна прелюбодействует с Мудрецом, с майей, иллюзией, или, скажем, с пустой
абстракцией материального мышления, образуя этим некое отражение намечающегося брака Горыныча с
дочкой Бабы-Яги. На примере Мудреца обнаруживается ложный характер
нравственности Горыныча. А что такое сам Мудрец? Иван объявляет, что у того
лишнее ребро. Что это означает? Согласно Книге Бытия, Бог создал Еву из ребра
Адама. И получается, что у Мадреца это ребро не изъято, а значит, он не имеет
никакого отношения к Божественному творению человека} Все его бытие зиждется
лишь на обмане, на человеческом неведении. Люцифер же, если и не был
соучастником, то все же присутствовал при сотворении человека. Вид существа,
как будто бы вполне обладающего реальностью, а на самом деле столь очевидным
образом не причастного к ней, повергает Люцифера в космический (гомерический)
хохот.* Иван же, столкнув Люцифера с Ариманом, приводит их к взаимопогашению, и
забирает у Мудреца, утратившего всякую силу (подобно "серым человечкам" из
сказки Михила Энде "Момо"), вместо справки саму печать. Но никакой силы и
реальности нет и в ариманической печати: когда Иван приносит ее в библиотеку,
то там не знают, что с ней делать. Ибо абстракция не может удостоверить
реальное бытие, как мысль отраженная - реальное мыслесущество. В то же время,
видимо, стоило Ивану сходить за печатью, чтобы всем это стало ясно. Свой опыт
всегда убедительнее чужого.
На обратном пути
Иван снова попадает в избушку Бабы-Яги. Там его победа над Мудрецом изменила
всю обстановку: Змей-Горыныч улетел на войну, а невесту до поры до времени
запер в туалете, что после маски из помета означает для нее нисхождение еще на
одну ступень позора, где ощущается отзвук того смеха, которым охвачена
Несмеяна. На этом закончим наш комментарий.
Победу над
Горынычем одерживает казак, иными словами, та русская душа ощущающая, которая
если и не совсем еще понимает, что такое человеческая свобода, зато хорошо
знает цену воли, и которая обрела свою социальную действительность в феномене
Новгородской Руси. Ивана на обратном пути поджидает другая опасность - которая
в современном мире получила скабрезное название "сексуальной революции". Ею
искушается также и донской атаман - победитель Горыныча, и вина тому -
неизжитая стихия "пламени вожделений".
Теперь нам
следовало бы рассмотреть главную сказку ХХ-го века Центральной Европы. Ею
является "Сказка о Зеленой Змее и Прекрасной Лилии" Гете, написанная еще в
XVIII веке в ответ на "Письма об эстетическом воспитании" Шиллера. В ней
выражены праобразы социальной трехчленности, к которой ныне вплотную подошло
европейское человечество. В понимании "Сказки" - ключ к решению важнейших
проблем современной цивилизации. Однако мы комментировать эту "Сказку" не
станем, поскольку, к счастью, это уже сделано Рудольфом Штайнером.
Мудрец сначала бравирует своей неуязвимостью от силы смеха и даже
сочиняет "на ходу" некую всецело ариманическую "теорию" смеха. Но оказывается
он не боится (защищаясь пошлостью) только того смеха, который не разоблачает
его сути.
Заключение (1990 г.)
Намерением автора дать с разных
сторон свободное, обнаруживающее духовный первоисточник обозрение феномена
русской культуры обусловлен очерковый характер книги. В то же время - это всего
лишь очерки, в них дан не более, чем общий эскиз темы, хотя некоторые из
полученных результатов носят, по мнению автора, и самостоятельный характер. Они
могут быть положены в основу размышлений о том, чем может закончиться бешеная
закрутка событий не только русской, но и мировой жизни последнего десятилетия
века.
Мы живем в мире, в котором,
фактически, упразднена история; она годится разве что для детективного сюжета.
Культура всецело заменена политикой. По этой причине у автора возникло
намерение воспользоваться - как это стоит у Гете - "притчей" для выражения
"трудно понимаемых вещей" и попытаться вместо заключения рассказать о том, что
произошло в "Сказке" Василия Шукшина во вторую ночь; без какой-либо,
разумеется, претензии на тот высокий уровень художественности, что присущ
произведениям этого писателя.
Согласно сложившемуся замыслу, во
вторую ночь персонажи русской литературы не захотели оставаться в библиотеке.
Они вышли побеседовать на открытый воздух. В свой круг они на этот раз
пригласили также героев русских сказок и кое-кого из писателей, как старых, так
и новых; были гости и иного рода. Разговор опять длился до утра и был еще более
драматичен, чем в первую ночь. Но к утру страсти поутихли, и хотя к общему
согласию прийти все-таки не удалось, все почувствовали, что оно близко. А когда
забрезжил рассвет, возвращаться в библиотеку никто не захотел. Было решено
отправиться к реке и с высокого берега полюбоваться восходом Солнца. Однако
утро на тот раз выдалось каким-то блеклым и ветреным. Всем стало ясно, что
дальнейший ход сказочных событий переходит из ночи в день.
В таком, примерно, духе хотелось
построить заключение. Но от этого замысла пришлось отказаться по следующей
причине.
Ныне в мире происходит так много,
что уследить за всем, кажется, не под силу никому. Чтение газет, журналов,
листовок превратилось в большую повседневную задачу. Однако буйный поток
информации не только не приближает, а безнадежно уносит прочь от понимания
происходящего. Необходимо куда больше сил, чем прежде, чтобы в отдельном
сознании противостоять все возрастающему напору этого потока. Но кто на это
способен, тот может сквозь его по большей части необыкновенно мутные воды
разглядеть, если и не первичный, то все же довольно много объясняющий
"вторичный" профеномен происходящих событий. Им является, мало сказать,
своеобразная, а беспримерная, уникальная, с точки зрения мировой истории,
война, в которой в качестве боеприпасов - патронов, снарядов, бомб, мин, боевых
отравляющих веществ и проч. - используются духовные ценности человечества и,
разумеется, России в том числе. Что прежде было культурными течениями,
направлениями, мировоззрениями, вероисповеданиями ныне превращено в армии,
разбито на фронты. Перестрелка ведется идеями, понятиями, этическими нормами.
Диалог, культурный обмен превращены в стратегию и тактику. Как классика, так и
новые феномены культуры превращаются воюющими сторонами в средства для
уничтожения противника. А многое так прямо и создается для этой цели. Ведется
бой - перефразируя слова поэта - не святой, не правый, даже не ради славы, а
ради смерти на земле: сначала духовной, а потом и физической. Поэтому
культурная жизнь, духовное творчество стали в последние годы почти
невозможными. Все культурные и моральные ценности от ложного их употребления
искажаются, извращаются, подменяются, а в целом над полем "брани", в которое
превращена духовная жизнь, встает густая, все отравляющая завеса лжи.
Лжи, скажут нам, было достаточно и
в прошлом. Да, это так. Но тут имеется и различие. Его можно уподобить различию
между маневрами и настоящим боем. Ибо в прошлом истина и обман, добро и зло
были все же разграничены. Лишь глупец не видел этой границы. И пусть силы
истины и добра были невелики - глубоко и непреодолимо было их качественное
действие. Они были таковы, что зло пред их лицом было вынуждено прятаться под
маской добра. Иное дело теперь, когда бесчеловечность и срам, ханжество,
варварство выступают без покровов и пытаются утверждать себя в качестве новых
моральных ценностей, когда отпетый злодей или вчерашний убийца берется судить
об истинном, нравственном с точки зрения вечных ценностей человечества.
Идущая война - несомненно мирового
характера. Ее хода не замечают лишь по причине необычности используемых в ней
средств. Но все тотчас же проясняется, стоит нам лишь сравнить ее результаты с
результатами двух предыдущих мировых войн. Самое важное в ней сводится не к
тому, что говорят представители тех или иных группировок, "фронтов", например,
те, кто причисляет себя к "славянофилам" или "западникам", кто, якобы, ратует
за православие или религиозную свободу, за белую гвардию или за "высокую
мораль" первых диктаторов пролетариата и т.д. - а, по меткому выражению
знаменитого англичанина, к битве двух тигров под ковром. Движения ковра
называют "гласностью", но дело явно не в них, а в том "тигре", который вылезет
из-под ковра победителем.
Мы не беремся оценивать
происходящие перемены, и лишь заметим, что все, связанное с так называемым
социалистическим экспериментом в России не может вызывать ничего, кроме чувства
глубокого отвращения в любой здоровой душе. Но чтобы понять события, их
необходимо правильно охарактеризовать. Лишь после того можно искать ответ на
вопрос: что делать?
Происходящее в России - это лишь
часть мирового процесса, но, как и в прошлом, часть наиболее ярко проявленная
внешне. Охарактеризовать ее можно следующим образом. Можно сказать, что
происходящее в России, начиная с 1917 г., представляет собой фантастическую
попытку поставить на социальной сцене огромного государства известный водевиль
Бернарда Шоу о мисс Дулитлл и мистере Хиггинсе.* А тогда остается лишь
удивляться, почему этот опереточный сюжет превратился в кровавую драму. Но,
мало того, слегка расчистив место среди горы трупов, на сцене опять появляются
режиссеры и объявляют, что вся загвоздка лишь в том, что по ходу действия в
состав артистов вкрался непредусмотренный сценарием персонаж. Теперь от него
отрекаются и пьеса будет поставлена заново с предусмотренным в ней хэппи
энд'ом. И режиссеры возглашают: Пожалуйста, мисс Дулитлл и мистер Хиггинс,
"Дальше, дальше, дальше!" И пьеса пошла вновь. Но тут обнаруживается, что в
первой постановке не один персонаж был не тот, а ни один не был "тот". Кроме
того, что теперь делать с самой мисс Дулитлл? Она-то и в лагерях насиделась, и
"ела лебеду, пухла с голоду". А главное - кажется никто не видит и не понимает,
что в реальной жизни водевиль о мисс Дулитлл и мистере Хиггинсе с неизбежностью
перерождается в историю Роберта Стивенсона о докторе Джеккиле и мистере Хайде.
И перерождение это совершается в силу не надуманных, а истинных законов
истории, о которых так много говорят и пишут, а на самом деле устраивают с ними
"игру в бисер", что опасно до безумия, поскольку мистер Хайд неистощим на злые
выдумки наихудшего свойства. Он, например, сумел так замаскировать систему
ГУЛАГа, что мы все возомнили, будто бы ее и впрямь больше нет. А она продолжает
снимать свой адский урожай, и не хуже прежнего! - Всем нам известно, поскольку
теперь об этом пишут открыто, что повсеместно происходит с нашей молодежью мужского
пола, которую поголовно забирают в армию: по два миллиона каждый год. И каждый
год (в течение более двадцати лет) два миллиона тех, кто еще не успел начать
жить, с кем связано наше будущее, подвергаются чудовищным унижениям,
издевательствам, надругательствам других двух миллионов - тех, кто ушел в армию
годом раньше. Тысячи и тысячи при этом вовсе лишаются жизни. А через год бывшим
жертвам предоставляется возможность самим безнаказанно стать палачами. Прибавим
сюда еще тот несусветный кошмар, что творится в детских домах, в интернатах, в
колониях для малолетних преступников, да и во всей, населенной многими
миллионами системе тюрем и лагерей, и вот он перед нами - ГУЛАГ наших дней. В
деле растоптания рода человеческого он в своем новом обличьи достиг ряда таких
успехов, о которых "гении" вчерашней системы насилия могли только мечтать. Ибо,
как сказано в Евангелии, "Не бойтесь тех, кто может убить только тело, а души
погубить не может. Страшитесь той власти, которая может погубить как тело, так
и душу".
* Поэтому была ли случайной горячая симпатия писателя к
эксперименту в России?
Новейших форм насилия над
человеческой личностью, применяемых в нашей стране, не знает мировая история.
Даже в литературе не возникало подобных сюжетов. Самые жестокие завоеватели в
захваченных ими странах, какое бы ни творили зло, со временем все же
смягчались, зло побеждалось добром. Только социалистический эксперимент не
знает ни сострадания, ни меры.
Что может спасти Россию? И может ли
что-либо ее спасти? Да, такая сила имеется, но ею не обладают ни левые, ни
правые, на которых разделилась идущая ныне борьба. Ни правые, ни левые не
способны быть спасителями России, ибо у правых, какой бы ни была их риторика об
истинно русских интересах, дело, в конце концов, сводится к вере в партию, в
единство диктатуры, идеологии и массового сознания; что же касается их новой
терминологии, типа: "святое воинство", "литургия военных парадов" и т.п., - то
ничего кроме новой эскалации старого безумия в этом не содержится.
Левые выступают под знаменем
демократии и свободы, по которым все мы так истосковались. Но и там дело
сводится не более, чем к элементарной вере: в чистую добродетель американского
и иного западного бизнеса, в освобождающую роль сексуального "беспредела", в
способность советских "младенцев" от политэкономии вести на равных торг с
финансовым миром Запада (не абсурдно ли уповать на всесилие капитализма и при
этом надеяться, что накопленным им в течение многих поколений опытом можно
овладеть, пройдя краткие курсы для бизнесменов?), в благодетельную роль рынка
рабочей силы, безработицы, высоких цен, налогов, "яростной конкуренции" (в эту
последнюю верят также и правые) и т.п.
Разделение двух указанных лагерей
на первый взгляд предстает столь категоричным, что порой растет тревога, как бы
дело не дошло до ножей. Но еще более непримиримо отношение обеих сторон к
намерению кого бы то ни было остаться посередине, не примыкать ни к тем, ни к
другим. Особенно ярко это видно на примере жизни и судьбы Александра
Солженицына. А ведь только посередине следует искать спасительное средство. Оно
- не в реставрации триумвирата самодержавия, православия и народности, а также
и не в реставрации капитализма (на капиталистический путь Россия вполне успешно
вступила в начале века. Для чего было его разрушать? Для того ли, чтобы прийти
к экономическому краху и теперь снова возвратиться на этот путь? Но в таком
случае нас ждет лишь капитализм в его начальной, самой бесчеловечной стадии). -
Спасение России в социальной трехчленности.
Не парламент или монопартийная
система, не капитализм западного образца или госкапитализм большевистского
толка, не национальный монолит или распад на суверенные государства с
населением до ста тысяч человек, а расчленение социальной структуры общества на
три совершенно самостоятельные части: государственно-правовую, духовную и
хозяйственную, - так следует ставить вопрос. Тогда понадобятся не один, а три
суверенных парламента, объединенных на федеративной основе. Граждане же получат
возможность трудиться, духовно развиваться, обладать реальными правами внутри
такой расчлененной структуры. На смену эксплуатации и конкуренции должен прийти
принцип взаимопомощи, осуществляемый между ассоциациями свободных
производителей (еще сто лет тому назад русский анархист князь П.Кропоткин
убедительно показал, что даже в царствах природы господствует взаимопомощь, а
не конкуренция; род человеческий не выше ли животного и растительного царств?).
Духовно, а не политически должны быть все свободны. В правовой же сфере (ив
политике) надлежит господствовать равноправию.
Социальная трехчленность
дифференцирует не людей, а отношения. Отдельный человек станет субъектом всех
трех типов социальных отношений. Такой общественный строй, а не диктатура или
капитализм, соответствует современному уровню человеческого самосознания,
поэтому он является единственным спасительным средством для страны, прошедшей
через неслыханные испытания. И социальная трехчленность будет осуществлена в России.
Вопрос лишь в том, какую цену еще придется заплатить на пути к ней.
Словно заглядывая в наше время,
Рудольф Штайнер говорил в 1918 г.: "Смертью должно будет стать все, что не
оплодотворится импульсами, приходящими из сверхчувственного мира. Вводите в эту
эпоху души сознательной демократию, парламентаризм, технику, новейшее
финансовое начало, новейшую индустрию, вводите принцип национального
самоопределения во всем мире... если все это вы не хотите оплодотворить
импульсами сверхчувственного мира, то вы только способствуете смерти".104
Все это хорошо не само по себе.
Рудольф Штайнер предсказывал, что
затеянное с помощью октябрьского переворота со временем придет к нулевой точке,
к полному краху. В августе 1920 г. он говорил: "Имеется много людей, которые
верят, будто бы с тем, что некогда должно будет возникнуть на Востоке (Европы),
ленинизм и троцкизм имеют что-то общее. Ничего подобного. С тем, что должно
возникнуть на Востоке, они не имеют ничего общего, а единственно лишь с тем,
что на Востоке идет к своей гибели, что и дальше обречено на умирание благодаря
ленинизму и троцкизму. Это только разрушительные силы, и то, что должно
возникнуть на Востоке, должно возникнуть вопреки этим разрушительным силам. ...
Ленинизм и троцкизм являются фактическим продолжением царизма. ...Царизм умер в
ленинизме, но именно как царизм умер он в ленинизме. В то же время, уже
столетиями на Востоке вырабатывалось нечто, направленное против царизма, что
теперь свое собственное бытие просто не понимает, если как-либо идет навстречу
ленинизму и троцкизму. ...Люди должны прежде всего увидеть, перед какими
переворотами они стоят. Сейчас образовалась только пауза между последней
катастрофой и следующей. И однажды во время этой паузы спящие души совершенно
бесцеремонно будут разбужены, им придется продрать глаза и сбросить ночной
колпак, поскольку катастрофа продолжится. Но что при этом, несмотря на все это,
будет образовано, - это деревенская община. И только те понимают вырабатывающуюся на Востоке
социальную конституцию, кто понимает сущность отдельных деревенских общин.
Деревенская община - это единственная реальность на Востоке. Все остальные
институты погибнут. Людям на Западе необходимо понять, благодаря чему может
быть организован агрегат этой деревенской общины. ...Трехчленность социального
организма должна быть воспринята отдельными членами деревенских общин на
Востоке, и таким образом должен быть спасен распадающийся старый организм
Запада, сильно индивидуализировавшийся и распадающийся именно как агрегат в
своих отдельностях".105
Теперь мы знаем, что катастрофа
действительно продолжилась, но люди все равно "глаз не продрали", а иным просто
не дали этого сделать. Так что же, катастрофа продолжится вновь? И что должно
произойти, чтобы были разрушены все институты кроме деревенской общины? Однако
в любом случае одно несомненно: будущее у России есть. "На европейском Востоке,
- читаем мы в другой лекции Рудольфа Штайнера, - из хаоса, из ужасной каши
разовьется определенное настроение, которое таинственным образом напомнит XVI
век (европейской реформации. - Авт.). И впервые из этого созвучия настроений IX
и ХVI-го веков возникнет Мистерия, которая пошлет свой свет туда, где
современное человечество нуждается в освещении, если желает подняться к
пониманию развития".106
Так судьба России переплетается с
судьбой мира. И правомерно поставить вопрос: Чего ждать России как идущего из
общей судьбы мира? Судьба эта в нашем веке складывается так, что на смену
склоняющейся к упадку двухтысячелетней христианской цивилизации хочет прийти
принципиально новая, ариманическая цивилизация. Все составляющие ее ингредиенты
оказались таинственным образом уже подготовленными, и теперь идет интенсивное
приведение их во всеобщую взаимосвязь. Приход этой цивилизации обусловлен
близким воплощением Аримана. Решающий сдвиг в ее сторону произойдет в ближайшие
годы в результате уникальной в своем роде научно-технической революции.
Человечество не то что стоит, а уже и переступило ее порог. Ее феномены
пытаются пока что выдавать за внеземные, что, видимо, также должно послужить
целям Аримана. Но в действительности они сугубо земного происхождения (не
следует только смешивать их со спонтанными вспышками сверхчувственных
переживаний, учащающихся к концу столетия по вполне понятным для Духовной науки
причинам), и они свидетельствуют о том, что уже открыты способы глобального
энергетического воздействия на человеческое сознание.
Ариманическая цивилизация заменит
на противоположные все наши представления о моральном, прекрасном, истинном,
добром, а на вершине власти она осуществит симбиоз политики и темного
оккультизма. Человечество будет разделено на три сословия, как это стоит у
Платона в его "Государстве". Потому-то и необходимо как можно скорее
дифференцировать социальную структуру, что позволит развитию человечества идти
естественным, а не измышленным абстрактными умами путем.
В борьбе с новой напастью не
помогут ни симбиоз армии с церковью, ни введение рок-музыки в христианский
культ, ни крестьянин-единоличник, ни добрый миллионер, а только обновление
христианской цивилизации во всех ее частях: в религии, искусстве и науке путем
соединения веры со знанием, с духовным знанием.
Медитация
"Из мужества борцов,
Из крови
битв,
Из страданий одиночества,
Из жертвенных деяний народа
Возрастет духовный плод,
Если души
духовно и сознательно
Обратят свои чувства и помыслы
К Царству Духа".
Рудольф Штайнер.
"Чувствуя ответственность перед
вашей народной Душой, вы, одновременно, исполняете свой долг и перед
человечеством".
Из обращения Рудольфа Штайнера к
русским антропософам.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Отдельные выдержки из
духовнонаучных сообщений Р. Штайнера
о многочленном человеке и некоторых
существах духовного мира.
Тело, душа, дух
"С помощью своего тела человек
может привести себя во временную связь с вещами. С помощью своей души он
сохраняет в себе впечатления, производимые на него вещами; а через дух ему
открывается то, что сами вещи хранят в себе. ...телом человек принадлежит миру,
который он и воспринимает телом; своей душой он строит себе собственный мир;
через его дух перед ним раскрывается мир, который стоит выше двух предыдущих".
"Духоведение", гл. 2. (9)*
* В скобках дан библиографический номер тома, согласно каталогу
издания полного наследия Р.Штайнера.
"...Душевное стоит перед двоякой
необходимостью. Оно определяется законами тела в силу природной необходимости;
и оно дает определять себя законам, приводящим его к верному мышлению, ибо
свободно признает их необходимость. Законам обмена веществ человек подчинен
природой; законам мышления он подчиняется сам. - Благодаря этому человек делает
себя членом более высокого порядка (бытия), чем тот, к которому он принадлежит
через свое тело. И этот порядок - духовный. Насколько телесное отлично от
душевного, настолько душевное отлично от духовного. Пока говорят только о
частицах углерода, водорода, азота, кислорода, движущихся в теле, не имеют в
виду души. Душевная жизнь начинается лишь там, где посреди этого движения
появляется ощущение: я чувствую сладкое, или: я чувствую удовольствие. Подобно
этому также мало имеют в виду дух, пока смотрят лишь на душевные переживания,
проходящие через человека, когда он вполне предается внешнему миру и своей
телесной жизни. Это душевное, скорее, есть лишь основа для духовного, как
телесное является основой для душевного. ...К тому, кто путем размышления хочет
уяснить себе существо человека, должно быть предъявлено требование, чтобы,
размышляя о самом себе, он уяснил различие между телом, душой и духом".
"Духоведение", гл. 5. (9)
"Человеческое тело обладает
строением, соответствующим мышлению. В теле находятся те же вещества и силы,
что и в минеральном царстве, но в таком сочетании, что благодаря ему может
возникать мышление.
...Это, организованное с расчетом
на мозг, как на свое средоточие, минеральное строение возникает путем
размножения и получает свой законченный облик путем роста. Размножение и рост у
человека общие с животными".
"Духоведение", гл. 6. (9)
Если ясновидчески взглянуть на
физическое тело, то оно явит собой туманное образование. Его истинный облик
открывается в высших сферах духа, на Девахане.
23.VII.1911. (126)
"Фантом является духовным
формообликом человека. Он так перерабатывает физические вещества и силы, что
они вступают в форму, которая встречает нас на физическом плане как человек,
...фантом ...важнее, чем вся внешняя материя, ибо внешние вещества суть не что
иное, как то, чем заполняется "каркас" человеческой формы. ...Мы знаем, что
зачаток этого фантома физического тела в эпоху древнего Сатурна заложила
Иерархия Престолов". "Под влиянием Люцифера (райское искушение и его
последствия) в область фантома вступают вещества и силы, пронизывая его собой".
9.Х.1911. (131)
"Вы можете точно различать внутри
вашей душевной жизни волю, мудрость (чувства, представления), движение и форму.
Все это ткет и живет внутри вашей души".
30.XII.1911. (134)
"В дыхательном, а не в
интеллектуальном процессе становимся мы душой. Мы чувствуем наше существо,
когда чувствуем наши мысли пульсирующими на волнах дыхания через все наше тело.
...Здесь чувствуют свое человеческое как творение духа".
17.VIII.1922. (305)
"Между настоящим временем и
вечностью стоит душа, держа середину между телом и духом. Но она является также
посредником между настоящим временем и вечностью. Она сохраняет настоящее для
воспоминания. Этим она вырывает настоящее у преходящего и подымает его в вечность
своего духовного. Она также запечатлевает вечное во временно-преходящем, когда
в своей жизни не отдается одним только мимолетным возбуждениям, а из самой себя
определяет вещи, внедряет свое существо в действия, совершаемые ею. При помощи
воспоминания душа сохраняет вчерашний день; своими действиями она подготовляет
себе завтрашний день". "Душа, как бы посредством оттиска, запечатлевает в теле
событие, благодаря которому нечто становится воспоминанием; но именно душа
должна сделать этот оттиск и затем сама его воспринять, как она воспринимает и
что-либо внешнее. Таким образом она является хранительницей воспоминаний".
"Духоведение", гл. 7. (9)
"В качестве хранительницы прошлого, душа постоянно собирает
сокровища для духа. Что я способен отличить верное от неверного - это зависит
от того, что я, как человек, представляю собой мыслящее существо, которое в
состоянии охватить истину в духе. Истина вечна, и она могла бы мне все снова и
снова открываться в вещах, даже если бы я постоянно терял их из виду, и каждое
впечатление было бы для меня новым. Но дух, пребывающий во мне, он не
ограничивается только впечатлениями настоящего - ведь душа охватывает своим
кругозором и прошедшее. ...Душа передает дальше духу то, что она получила
благодаря наличию тела. Вследствие этого дух человека в каждый момент своей
жизни содержит в себе двоякое: во-первых, вечные законы истины и добра,
во-вторых, воспоминания о переживаниях прошлого. Все, что бы ни делал человек,
он делает под влиянием обоих этих факторов. И если мы хотим понять человеческий
дух, то нам следует знать о нем две вещи: насколько раскрылось ему вечное, и
какие сокровища прошлого находятся в нем".
"Духоведение", гл. 7. (9)
"Тело подлежит закону
наследственности; душа подлежит судьбе, созданной ею самой. Эту, самим
человеком созданную судьбу, согласно древнему выражению, называют кармой. Дух
же подлежит закону перевоплощения, закону повторяющихся человеческих жизней".
"Духоведение", гл. 7. (9)
Три
тела
"Телом следует обозначать то, что
существу какого-либо рода придает "форму", "облик". Не надо смешивать выражение
"тело" с чувственной телесной формой. В этом смысле понятие "тело" может быть
употреблено также и для того, что принимает известный облик как душевное и
духовное".
"Духоведение", гл. 6. (9)
Форма живого существа определяется
тем, к какому виду оно принадлежит. "Вещества, из которых оно состоит,
сменяются постоянно, вид же остается и передается по наследству потомкам. Итак,
вид есть то, что определяет сочетание веществ. И та сила, что образует вид,
должна быть названа жизненной силой. Как минеральные силы выражаются в
кристаллах, так жизненная сила выражается в образовании видов или форм
растительной и животной жизни". "В каждом растении, в каждом животном можно
ощутить кроме физического облика еще его духовный, исполненный жизни облик".
Его называют эфирным телом. "Своей приноровленностью к мыслящему духу эфирное
тело Человека отличается от эфирного тела растений и животных. ...После смерти
физическое тело растворяется в минеральном мире, тело эфирное - в мире жизни".
"Духоведение", гл. 6. (9)
"Эфирное тело - это подвижный в себе организм, беспрерывное
выражение мыслей, чувств и воли".
21.Х1.1914. (156)
"...При описании эфирного тела
можно приводить и другие переживания души, отвечающие ощущениям теплоты,
впечатлениям звука и т.д. Ибо оно не есть только цветовое (имагинативное)
явление".
"Очерк тайноведения", гл. 7. (13)
"Эфирный поток, идущий из космоса,
постоянно циркулирует в человеческом теле. Он вступает через голову, идет
оттуда в правую ногу, затем в левую руку, затем - в правую, затем в левую ногу
и оттуда назад - в голову". Человек сформирован эфирными потоками. Один из них
замкнул его в собственную кожу, отделив от окружения. Человек выпрямился и стал
способен образовывать карму. - Это вызвал второй поток. Третий поток вместе с
развитием легких образовал гортань и возникла речь. Четвертый поток образовал
центр у корня носа, и человек пришел к самосознанию; до того он обладал лишь
самочувствием. "Из духа соткано все человеческое существо, из духа мы рождены,
низошли в материю и снова устремляемся в дух. Течения, которые действовали при
нашем нисхождении в материю, они должны быть нами осознаны. Мы идем назад тем
же путем, каким пришли, но сознательно. Другого истинного развития не
существует".
14.II.1906. (42/246)
"Как бы из скрытых, таинственных
источников поднимаются при пробуждении человека сознательные силы из
бессознательности сна. ...То, что все снова пробуждает жизнь из состояния
бессознательности, и есть, в смысле сверхчувственного познания, третий член
человеческого существа. Его
называют астральным телом".
"Очерк тайноведения", гл. 2. (13)
"Астральное тело - это сумма
процессов". Оно составляет оппозицию законам природы, и именно оно освобождает
нас от их оков, действующих в
течение дня".
22.VIII.1923. (227)
"В каждом существе астральное тело
является именно тем, что дает импульс к движению".
13.IV.1912. (136)
"Все сострадание, милосердие
проистекают из астрального тела".
12.Х1.1910. (123)
Астральное тело человека во время
сна связано с Духами планет. "Все другие объяснения выражения "астральное
тело", придуманные в средние века, не верны".
24.П1. 1910. (122)
"Астральное тело возвышается сверху на 2,5 головы над физическим
телом, окружает его подобно облаку и теряется внизу".
24.VIII.1906. (95)
"Когда астральное тело соединено с
физическим, то оно имеет форму яйца. После смерти оно удивительно светится,
является подвижным образованием. В соответствии со свойствами (человека) оно
обладает различными светящимися красками". В нем видны три светящиеся точки,
далеко отстоящие одна от другой. Они представляют собой силовые центры.
(95) Приложение
Эфирное тело влияет одновременно
на физическое и на астральное тело. Первое оно уплотняет, консолидирует; второе
- лишает сил ясновидения из-за развития интеллектуальных сил.
19.VII.1911. (129)
"Физическое тело является
выразителем волевых импульсов, астральное тело - мыслей, а эфирное -
пребывающих (укоренившихся) аффектов и привычек".
20.VIII.1911. (129)
"Благодаря общим свойствам
эфирного тела люди понимают друг друга. Но то, благодаря чему они вырастают из
общего, благодаря чему они в семье, в народе обладают особенным, являются и для
себя отдельным существом ...это коренится в астральном теле. Астральное тело,
таким образом, содержит в себе больше индивидуального, личного".
28.1.1907. (96)
"В эфирном теле человеку
напечатлевается разум космоса. ...В астральном теле духовный мир напечатлевает
человеку моральные импульсы. ...В я-организациии человек переживает самого себя
как духа".
(26) Афоризмы 73- 75
Три души
"Как тело состоит из физического
тела ...астрального и эфирного, так душа состоит из ощущающей, рассудочной и сознательной".
13.Х.1904. (53)
"Когда имеют в виду возникновение
знания о находящемся перед нами предмете, то говорят об астральном теле. А то,
что дает знанию длительность, обозначают как душу. ...Оба они до некоторой
степени соединены в один член человеческого существа. Поэтому часто это
соединение обозначают как астральное тело. Если хотят обозначить это точнее, то
об астральном теле говорят как о теле душевном, а о душе, поскольку она
соединена с ним, как о душе ощущающей".
"Очерк тайноведения", гл. 2. (13)
"Что наколдовывается извне перед нашей душой - это результат
действия тела ощущений (душевного тела; мы видим, напр., желтый цвет); что при
этом мы переживаем внутренне (удовольствие, неудовольствие) ...это принадлежит
к душе ощущающей".
22.III.1910. (119)
"Чувствовать себя душой ощущающей
означает: человек почти ничего не знает о том, что он мыслящий; человеку тогда
совершенно не дано иметь мыслей, но зато он стоит в постоянной чувственной
связи с внешним миром, пропитанным духом".
З.VII.1918. (181)
"Душу, пользующуюся услугами
мышления, обозначим душой рассудочной. Ее также можно было бы назвать душой
характера".
"Духоведение", гл. 6. (9)
"...душу рассудочную - поскольку
она причастна природе "я" и поскольку она, в известном отношении, и есть само
"я", которое только еще не осознало своей духовной сущности - называют просто
"я".
"Очерк тайноведения", гл. 2. (13)
"Позволяя ожить внутри себя
независимой истине и добру, человек поднимается выше души ощущающей. Ее тогда
начинает пронизывать светом вечный дух. ...она соединяет свое собственное бытие
с вечным бытием. То, что душа несет в себе как истину, добро то в ней
бессмертно. - То, что в душе вспыхивает как вечное, мы назовем здесь душой
сознательной. ...Под душой сознательной мы разумеем здесь ядро человеческого
сознания, то есть душу в душе. Таким образом, душа сознательная, как особый
член души, отличается от души рассудочной. Эта последняя все еще запутана в
ощущениях, порывах, аффектах и т.п.".
"Духоведение", гл. 6. (9)
"...бессознательно переработанное
физическое тело есть душа сознательная... она пользуется мозгом физического
тела".
29.III.1913. (145)
"Роза вызывает во мне ощущения. -
Это действует душа ощущающая. Затем я могу думать о ней, тогда действует душа
рассудочная. Но если теперь - после чувств и мыслей - я сделаю из цветов букет
и скажу себе, что он может кому-то понравиться, принести радость, то я перехожу
к действию, вступаю в душу сознательную, снова привожу себя через нее в
соприкосновение с миром".
22.III.1910. (119)
Человек, всецело живущий в душе
ощущающей, когда ест хороший обед, любит от удовольствия хлопать себя по телу.
Это верный знак того, что в нем сильна душа ощущающая. Кто живет в душе
рассудочной, любит хлопать себя по
груди, доказывая истинность того, что он говорит. А тот, кто глубоко вошел в
душу сознательную, держится за нос или гладит себя, почесывает за ушами, когда
особенно глубоко о чем-то размышляет.
26.ХП.1908. (108)
"Когда восходят
страсти в виде аффектов, гнева, боязливости, то при этом главным образом
господствует душа ощущающая. ...В душе рассудочной пребывают способности
облекать в представления, фильтровать до человеческой формы душевной жизни то,
что переживается в душе ощущающей, как инстинкты, аффекты. Когда, например,
аффект, возникающий лишь из инстинкта самосохранения, фильтруется до
благоволения и даже до исполненного любви отношения к окружающему миру, то мы
уже имеем дело с душой рассудочной, или характера. В душе рассудочной восходит
наше "я", средоточие душевной жизни.
В дальнейшем
развитии "я" мы чувствуем себя как внутреннего, в своем средоточии
утверждающего себя человека и формируем наши представления и мысли в большие
идеи, с помощью которых мы понимаем природу или моральные идеи. В связи со всем
этим мы говорим о душе сознательной".
Силы души
ощущающей и рассудочной как желания, страсти, волевые импульсы и
интеллектуальные суждения достигают души сознательной. Но там все это
обрабатывается логическим мышлением, и там образуются наши мнения. Эта душа в
наибольшей мере возводит границы между нами и внешним миром и потому
предрасположена впадать в ошибки и заблуждения. Благодаря ей мы расходимся с
другими людьми во мнениях. "Душа сознательная изолирована также еще и потому,
что с ее помощью человек как бы простирает щупальца во внешний мир. Когда мы
обдумываем то, что хотим сделать, то мы живем в душе рассудочной. Когда же мы
наблюдаем окружающее нас, то через органы чувств мы простираем туда щупальца
души сознательной и снова приходим к тому, что делает нас изолированнейшими
существами. Ибо благодаря тому, что нам дают органы чувств, мы делаемся
изолированнейшими существами".
8.1.1911. (127)
Человеческий дух
"Подобно тому,
как снизу вверх телесность действует на душу ограничивающим образом, так
духовность действует на душу сверху расширяюще. Ибо, чем больше душа
наполняется истиной и добром, тем больше и глубже пронизывает ее вечное".
"Различие между Самодухом и душой сознательной можно уяснить себе следующим
образом. Душа сознательная соприкасается с независимой от всякой симпатии и
антипатии, довлеющей самой себе истиной; Самодух является носителем этой
истины, но только воспринятой и замкнутой через посредство "я", через "я"
индивидуализированной и воспринятой в индивидуальное существо человека. ..
.благодаря этому само "я" обретает вечность".
"Душа ощущающая не только получает
впечатления внешнего мира как ощущения; у нее есть своя собственная жизнь, которая,
с одной стороны, оплодотворяется мыслью, а с другой - ощущениями. Так
становится она душой рассудочной. Она достигает этого благодаря тому, что
раскрывается вверх интуициям так же, как вниз ощущениям. Тем самым она
становится душой сознательной. Это возможно для нее потому, что духовный мир
образует в ней орган интуиции, как физическое тело образует в ней органы
чувств. ...Благодаря этому Духочеловек связан воедино с душой сознательной так
же, как физическое тело связано с душой ощущающей в теле душевном. Душа
сознательная и Самодух образуют единство. В этом единстве живет Духочеловек.
...И как физическое тело замкнуто в физической коже, так Духочеловек замкнут в
духооболочке".
"Дух излучается в
"я" и живет в нем как в своей оболочке, подобно тому, как "я" живет в теле и
душе как в своих "оболочках". Дух образует "я" изнутри наружу, минеральный мир
- извне вовнутрь. Этот, образующий "я" и живущий как "я" дух, пусть будет
назван Само-духом, так как он является как "я" или "Сам" (Самость) в человеке".
"Духоведение",
гл. 6. (9)
"Возвысьте свою
мысль до постижения вечного, и вы будете жить в Манасе (Самодухе). Возвысьте
свое чувство и ощущение до характера вечного, и вы будете жить в Буддхи
(Жизнедухе)".
9.II.1905. (53)
- это мудрость,
2.ХП.1906. (97)
- это Царство, а 7.11.1907.
(97)
"Высокоразвитый
Манас, воспринимающий Буддхи, София, Матерь, оплодотворенная Отцом Иисуса".
"...Атма
(Духочеловек) - это Воля Бога; Буддхи... Манас - Имя".
7.II.1907. (97)
"Я"
"Я" живет как во
внешнем мире, так и в физическом теле человека. В нем кончается разница между
объективным и субъективным.
13.VIII.1921.
(206)
"...то, что
выражается в слове "я", есть волевой акт, действительный волевой акт. А наше
представление о "я" - это зеркальное отображение, возникающее посредством того,
что воля ударяется о тело подобно тому, как, смотрясь в зеркало, мы видим наше
физическое тело отраженным... "Я" живет на физическом плане как волевой
акт...".
8.11.1916. (166)
Человеческое "я"
образует в ауре некий овал (в точке, находящейся между бровями) синего цвета,
вернее сказать, некое синее "не-тело". "Это святилище закрыто от всех, в том
числе и от ясновидящего. Никто не может взирать в "я" другого человека". Но
внутри этого синего овала видно еще одно образование; оно словно бы пламенеет:
это дух. Он также трехчленен. 13.Х.1904. (53)
"Истинное Я живет
в той же мировой сфере, где живет истинная действительность нашей воли".
15.ХП.1917. (179)
"Действительное
"я" не входит в сознание, а только понятие, представление о "я", которое
отражается. Во время же от засыпания до пробуждения "я" действительно приходит
к самому себе (вне тела), но человек в обычном сне о том ничего не знает,
поскольку остается бессознательным. "Я" связано с нижней телесностью человека:
днем изнутри, ночью извне. ...Астральное тело связано с грудной частью
физического тела. О том, что происходит в этом астральном теле и действует
через грудь, мы можем только видеть сны.
Эфирное тело
связано с головой. ...И можно сказать: "я" связано с нижними частями тела,
астральное тело - с грудью, сердце, о процессах которого мы не имеем полного
сознания, бьется под влиянием астрального тела. Когда голова думает, то она это
делает под влиянием эфирного тела. А затем мы можем выделить физическое тело -
оно связано со всем внешним миром".
6.11.1917. (175)
"...железы,
органы размножения и питания созданы эфирным телом. Астральное тело - строитель
нервной системы, а "я" вчленило в организм кровь".
1.VI.1907. (99)
Импульс
Христа
"Импульс Христа -
это как бы групповая душа всего человечества, но такая, которую человечество
ищет сознательно".
1.I.1913. (142)
"Христа не
понимает тот, кому не ясно, что Христос не проходил на Земле через какого-либо
рода посвящение, но только благодаря тому, что Он был здесь, Он был посвящен и
соединил в себе все".
5.IV.1913. (140)
В момент крещения
в Иордане Я Христа вступает в три оболочки Иисуса. Его отличает от других людей
при этом то, что это Я никогда не подпадало искушению Люцифера, как это имеет
место в отношении всех людей. 9.Х.1911. (131)
"...в Христе следует видеть
космически-духовное; в Иисусе - того, через кого это космически-духовное
вступило в историческое развитие и таким путем соединилось с человечеством, и с
сущностным ядром человека может теперь жить в вечности".
24.VIII.1918. (183)
"В образе Христа
дан идеал, противодействующий всякому обособлению, ибо в человеке, носящем имя
Христа, живет высокое солнечное Существо, в котором каждое человеческое "я"
находит свою первооснову. ...Так как вначале было постигнуто только мысленно,
что в Христе Иисусе живет идеальный Человек, Которого не досягают условия
обособления, Христианство стало идеалом всеобъемлющего братства. Выше и помимо
всех отдельных интересов и всякого отдельного родства появилось чувство, что
наивнутреннейшее Я всех людей имеет одно общее происхождение".
"Очерк
тайноведения", гл. 4. (13)
"Вплоть до
Мистерии Голгофы, в ходе исторического развития человечества Земля не имела
своего высшего Я, ибо это высшее Я не находится в том, что развивается из
Земли, что в нее заложено, оно не живет в старой языческой мудрости, а также и
в иудейской мудрости, оно вообще не живет в Земле. В человеке Иисусе из
Назарета жило высшее Я Земли, и Оно, как мы знаем, сошло через Иоанново
крещение на Иордане, и после исполнения Мистерии Голгофы пребывает как
действенный Импульс в земной жизни. Благодаря ей земная жизнь получила свое
высшее Я. Можно еще сказать: микрокосмически в каждом человеке разыгрывается
некий внутренний процесс, если он желает иметь его в себе макрокосмически этот
же самый процесс был дан через Мистерию Голгофы Земле. Что микрокосмически
является пробуждением высшего Я в человеке, то макрокосмически есть Мистерия
Голгофы".
11.VII.1920. (198)
"Христос не учит
обычным способом. Люди учатся знать о Нем, познавать то, что есть в Нем.
Христос более объект, чем субъект учения". Христос ничего не написал, это
сделали Его ученики, поэтому нет ничего удивительного в том, что и в других
местах мы находим то, что считают учением Христа. "Думать, что во время,
следующее непосредственно за откровением Христа, существовала вся истина о
Христе, означает вообще не иметь никакого понятия о прогрессе рода
человеческого".
31.VIII.1909. (113)
"Искать Христа в
земном развитии только с Мистерии Голгофы - неверно. Настоящие христиане знают,
что Христос всегда был связан с земным развитием". (См., напр., Кор. 10;1-4)
12.VII.1914. (155)
"...Христос
совершил нечто такое, в чем Он сам совершенно не нуждался. ...Это был поступок
Божественной любви! Мы должны хорошо понять, что никакое человеческое сердце
еще не в состоянии ощутить ту интенсивность любви, которая была необходима для
Бога, чтобы принять ненужное для Него решение и деятельно вступить на Землю в
человеческом теле".
14.X.1911.(131)
"...лишь через Христа человек
становится душой, какой он должен стать по решению ведущих Богов. Это
удивительное чувство родины, которое могут иметь души со Христом. Ибо из
прадревней родины души низошел Космический Христос, чтобы вновь дать
человеческой душе то, что она потеряла на Земле из-за люциферического
искушения. Вверх ведет Христос душу, к ее прадревней родине, предназначенной ей
Богами. Таково наполняющее счастьем, приводящее в восторг действительное
переживание Христа в человеческой душе".
16.УП.1914. (155)
Эгоистический человек "может быть
спасен через свою карму, но он при этом не в состоянии спасти все земное бытие.
Это делает Христос. И в тот момент, когда мы решаемся не думать только о своем
"я", мы получаем возможность думать о чем-то другом. О чем же? - О Христе в
нас, как говорит Павел. Вместе с Ним мы тогда связываемся со всем земным
бытием; мы тогда не думаем о своем спасении, но говорим: не я и мое спасение,
а: не я, но Христос во мне и спасение Земли!"
15.УП.1914. (155)
Христос
между Люцифером и Ариманом
"Силы Люцифера и Аримана
захлестывают мир, и человек должен через Христово сознание стать существом,
которое как бы сидит в лодке, а ее постоянно качают волны Люцифера и Аримана,
по она, тем не менее, должна найти свой путь через море, живая субстанция
которого состоит из Люцифера и Аримана. Человек должен провести свою Христову
ладью через это море".
13.У1.1915. (159)
"Люциферические существа,
принесшие человеку свободу, дали ему также возможность эту свободу употребить
свободным образом для прозрения в понимании Христа. Тогда в огне Христианства
просветляются и очищаются люциферические духи, а то, что через них впало на
Земле в грех, обращается из греха в благодеяние".
22.11.1909. (107)
"Если бы человек захотел получить
объяснение своей духовной сущности вне совместной жизни с Сущностью Христа, то
это увело бы его из собственной действительности и ввело бы в ариманическую.
...В тех, кто требует строгой охраны откровения веры от проникновения в него
человеческого познания, лежит бессознательный страх того, что на таких путях
человек
Может подпасть
ариманическому влиянию. Это должно быть понятно. Но нужно бы также понять и то,
что славе и истинному признанию Христа служит переживание со Христом полного
благодати излияния духовного в человеческую душу".
(26) Афоризмы
115- 117
Человеческая душа
проходит правомерное развитие в мире чувств. Наперекор ему работают
люциферические существа. "Они хотят вырвать чувствующую душу из условий
человеческой деятельности, ...они как бы подстерегают все, что есть в этом мире
душевного (чувствующего), дабы извлечь это из мира чувств и включить в свою
собственную мировую область, схожую с их природой".
"Порог духовного мира",
гл. 5. (17)
Люциферические
существа ненавидят Землю, стремятся спиритуализировать человека и лишить его
земного влияния. Для этого они постоянно "стараются интеллект, которым мы
обладаем как люди, сделать автоматическим, подавить в нас свободную волю.
...Они стремятся сделать нас чистыми духами, которые не имели бы собственного
интеллекта, а только космический интеллект без собственной воли, в котором
автоматически протекали бы мышление и деяния".
21.1Х.1918 (184)
"Гетевский
Мефистофель есть не кто иной, как образ Аримана".
1.1.1909. (107)
"Существа,
обусловливающие овеществление чувственного мира, получают название
ариманичсских. ...их подлинная область находится в царстве минерального.
...Относительно высших царств ариманические существа имеют задачу вызывать в
них смерть".
"Порог духовного
мира", гл. 4. (17)
"...Ариман хочет
удержать мышление в физически-чувственном мире и сделать из него тени, схемы в
чувственном мире, чтобы для элементарного ясновидения оно было видимо как
шмыгающие тени".
25.У1П.1913.
(147)
Архангелы
- Духи Народов
"...подумайте о
человеческом эфирном теле в лоне эфирного тела Духа Народа; подумайте затем о
взаимодействии эфирных сил народного и человеческого, а далее о том, что
эфирное тело народа отражается в народном темпераменте, в смеси темпераментов
отдельных людей, и вы подойдете к тайне выступления вам навстречу из лона
народа, во всем своем своеобразии, самого Духа этого народа".
8.У1.1910. (121)
"Архангел, ведущий народ, чужд личным
переживаниям человека, связанным с восприятиями его чувств. Но здесь существуют
посредники ...Ангелы".
9.У1.1910. (121)
"Архангелы ведают
вхождением человека в тот или иной народ. И если отношение человека к Архангелу
односторонне, то человек включается в народность в соответствии не со своим
внутренним душевным существом, а мировым порядком. В этом случае люди в
каком-либо народе соединяются внешне, например, на основе языковой общности, и
легко подпадают импульсам шовинизма, национализма".
7.Х.1921.(207)
Архангелы,
ведущие народы, изживают себя в гении речи.
22.Х.1921.(208)
ПРИМЕЧАНИЯ к книге II
1 С.М.Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, стр. 20.
2 Там же, стр. 38.
3 Там же, стр. 89.
4 М.М.Щербатов. Сочинения. СПб, 1898, т.II, стр. 133.
5 Симптоматичен сам процесс перехода власти к Петру. До него, как известно, правила царица Софья руками своего фаворита князя Василия Голицина. Их сторонники, встревоженные усилением молодого Петра, призывают их принять какие-нибудь меры, чтобы не допустить его до трона, на который он, в общем-то, прав не имел. Но Голицин, сам много лет стоявший под действием темного двойника самодержавия, почувствовал смену "патрона", сделался апатичным и полностью капитулировал перед молодым претендентом, хотя знал заранее, что это будет стоить ему жизни. Именно победа ариманических сил над люциферическими, произошедшая за кулисами внешней власти, обусловила успех Петра.
6 Ж.-Ж.Руссо. Об общественном договоре. М., 1906, стр. 72.
7 М. Клочков. Население России при Петре Великом. СПб, 1911, т.1, стр. 83. Главными причинами разорения дворов было: 1) взятие в рекруты, работники и мастеровые - 20%; 2) бежало - 35%; 3) умерло - 30%; 4) прочие - 15%.
8 Р.Штайнер. Лекция от 14 ноября 1914 г. ИПН 158.
9 R.Steiner-M.Sivers. Briefwechsel und Dokumenten. 1901-1925. Dornach, 1967.ga 262.
10 Р.Штайнер. Лекция от 23 окт. 1905 г. ИПН 93.
11 Р. Штайнер. Лекция от 5 окт. 1911 г. ИПН 131.
12 Р. Штайнер. Лекция от 3 июля 1920 г. ИПН 198.
13 Р. Штайнер. Лекция от 30 июля 1918 г. ИПН 181.
14 Р. Штайнер. Лекция от 4 ноября 1904 г. ИПН 93.
15 Н.И. Новиков и его современники. М., 1961, стр. 423.
16 А.И. Соколова. Северный сфинкс. СПб, 1912.
17 См. Н.Я.Эйдельман. Грань веков. М., 1982, стр. 56-58. Там рассказано, как эти анекдоты возникали и что было в действительности.
18 Текст "Рассуждении" опубликован в сборнике "Вспомогательные исторические дисциплины". М., 1974, вып. 6, стр. 266-267.
19 Цитир. по книге: Н.Я. Эйдельман. Грань веков, стр. 74-75.
20 См. "Цареубийство 11 марта 1801 г. СПб, 1907, стр. 13.
21 Р. Штайнер. Лекция от 3 ноября 1918 г. ИПН 185.
22 Р. Штайнер. Лекция от 19 июня 1917 г. ИПН 176.
23 Е.С. Шумигорский. Император Павел I. СПб, 1907, стр. 199. Декабрист Фонвизин опровергает утверждения об английском золоте тем, что лорд Уитворд (англ. посланник в Петербурге; он первым распустил слух о том, будто Павел безумен, а прежде находил в его поступках "что-то рыцарское, откровенное") "слишком известен по строгой честности и благородным правилам своим, чтобы можно было подозревать его в таком коварном и безнравственном действии...".
24 Он выбился в люди благодаря тому, что, будучи молодым и красивым, понравился престарелой императрице и стал ее фаворитом. Однако, если все равно признать существование в том кругу каких-либо конституционных намерений, то и тогда не следует представлять их себе идущими далее тех олигархических претензий, о которых говорил Пушкин.
25 Цареубийство 11 марта 1801 г., стр. 86.
26 Н.Я. Эйдельман. Грань веков, стр. 302.
27 См. об этом: P.tradowsky. Каspаr Наuser oder das Ringen um den Geist . Dornach /Schweiz, 1980.
28 Могут возразить, что и Павла с колыбели отняли у матери и воспитывали особым образом. Его, в отличие от Александра, держали в тепле, даже кутали, так что впоследствии он был чувствителен к простуде. На это можно ответить, что согласно духовнонаучным сообщениям Р.Штайнера о воспитании ребенка, тепло как раз является тем элементом, в котором и должно совершаться развитие ребенка, если желают, чтобы оно было здоровым. Можно, конечно, и переусердствовать, и тогда ребенок будет легко простужаться, но это лишь физиологический момент. По характеру же Павел был подвижным, жизнерадостным и общительным ребенком. В отношении Александра, как мы показали, была применена целая система вредных мер. Даже чрезмерно раннее обучение ребенка иностранным языкам, как об этом говорит Р.Штайнер, ослабляет в детях чувство внутреннего равновесия, а именно на это и было направлено все в системе воспитания Александра.
29 Письмо приведено Н.К.Шильдером в книге "Император Александр I", СПб, 1897, т. 1, стр. 277.
30 А.С. Пушкин. "Заметки по русской истории". Поли. собр. соч., т. 1, изд. "Академия", 1936, стр. 256.
31 Н.К. Шильдер. Император Николай I. СПб, 1903, т. 2, примечание 519.
32 См. Н.Я. Эйдельман. Грань веков, стр. 212-218.
33 В.Ф. Одоевский. О литературе и искусстве (статьи). М., 1982, стр. 135-136.
34 А.В. Никитенко. Записки и дневники, т. 1, 1893, стр. 359.
35 А.С. Хомяков. Поли. собр. соч., Прага, 1867, т. 2, стр. 86.
36 Д. С. Мережковский, питавший большую симпатию к декабристам, но фатально не видевший "кулис" (что, кстати сказать, впоследствии трагически отозвалось и на его личной судьбе; см. в этой связи "Дневники" Зинаиды Гиппиус и др.), приводит, тем не менее, в романе "Александр I" весьма примечательный диалог между Луниным и кн. Голицыным.
Лунин Голицыну: "- Как вы полагаете, будет ли принято Обществом содействие... Посмотрел на него и кончил решительно: - Содействие святых отцов Иисусова ордена?
- Иезуитов?
- Да, иезуитов. А что? Удивляетесь, что умный человек говорит глупости? Погодите, не решайте сразу. Ваш ответ важен для меня, - важнее, чем вы может быть думаете. ... за судьбы мира борются сейчас две силы великие: грядущее восстание еще небывалое, - всемирное войско рабочих, 1е зос1аИ5те... не знаю, как сказать по-русски. О Сен-Симоне слышали?
- Кое-что слышал.
- Мы с ним в Париже виделись, - продолжал Лунин, - говорили о России, о Тайном Обществе, он тоже готов нам помочь и ждет нашей помощи. Это - сила человеческая, а другая - божеская: непостижимая мысль, соединившая царство и священство в одном человеке: "да будет един Царь на небеси и на земли - Иисус Христос", как в вашем же катехизисе (Тайного общества) сказано. А ведь это и наша мысль, Голицын, - мысль Рима...
- Нет, Лунин, мысль Рима не наша, наш Царь Христос, а не папа
- Не все ли равно? Папа - церковь, а церковь - Христос Ну, потом, потом слушай же обе эти силы к нам идут, хотят соединиться в нас И неужели не захотим? Неужели откажемся?
Говорил еще долго, объясняя свой план соединение церквей, и папа - вождь восстания русского, восстания всемирного, глава освобожденного человечества на пути к Царству Божьему
- Я верю, - говорил Лунин, что Бог спасет Россию, а если и погибнет она, то гибель ее будет спасеньем Европы, и зарево пожара, который испепелит Россию, - зарей освобождения всемирного"
37 Бестужев на допросе признавался, что содействовал достижению цели, "не видя, что самый успех наш был бы пагубен для нас и для России Но мне предопределено было раскрыть глаза уже в оковах" Сожалел о содеянном и Сергей Муравьев Апостол Он просил помиловать его и испытать на каком-нибудь трудном деле Его однако казнили (в 28 лет), и тут встает вопрос а кто были судьи? Определенно, это не была молодежь, а люди зрелые, способные шире смотреть на вещи Так почему же весь процесс над декабристами был повернут в одну единственную сторону кто злоумышлял против особы императора? Почему не обнажили они тех, известных им, кулис, благодаря которым молодежь была введена в заблуждение? Не могли не понимать они и того, какой резонанс (не на пользу России) во всей Европе, а не только в России вызовет казнь молодых людей, совершивших в общем то лишь преступление мысли Поэт Вяземский писал в 1826 г "По совести нахожу, что казни и наказания не соразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла в одном только умысле"
38 В. В. Кандинский О духовном в искусстве Нью-Йорк, 1967, стр. 86-87, 52
39 См журнал "Старые годы" Июль-сент 1 907
40 Мы относим в примечание последнее соображение, касающееся личности Александра Иванова Известно, что в конце жизни его посетили тяжелые сомнения относительно прожитых лет В 1857 г он даже поехал в Лондон за советом к Герцену и в беседе с ним будто бы высказал такую мысль "я утратил ту религиозную веру, которая мне облегчала работу, жизнь мир души расстроился, сыщите мне выход, укажите идеал" Герцен в ответ радостно обнял художника, но по поводу чего была его радость - неизвестно Совета же он никакого не дал и идеала не указал, да и не мог указать Но как нам понять это настроение Иванова? Скорее всего, оно возникло по той причине, что говоривший через художника Дух разрушил оковы его прежнего ортодоксального верования, ибо в акте творчества возвел его к истокам эзотерического Христианства Осознать же творимое им, Иванов все же не смог
И еще одна догадка возникает в этой связи Мы сформулируем ее в виде вопроса В результате столь продолжительного и интенсивнейшего сосредоточения на сюжете картины не соединилось ли само "я" творца с его творением? На эту мысль наводит то, даже немного шоковое впечатление, о котором говорят многие, пережившие встречу с картиной в первый раз Она вовсе не натуралистична и, в то же время, обладает какой-то повышенной реальностью Интересно также и то обстоятельство, что художник скончался от холеры через несколько недель после того, как картина была выставлена в Петербурге на всеобщее обозрение, он даже не успел получить назначенную за нее сумму денег Пусть этот вопрос обдумают те, кто прорабатывал цикл лекций Р Штайнера о 5-м Евангелии
Еще в картине обращает на себя внимание тот факт, что лик Христа определенно имеет сходство с тем образом Христа, который Р Штайнер дал на эскизе к своей скульптурной группе, созданной на основе сверхчувственного созерцания.
41 При этом не только сохранено, но даже усилено, особенно в последние десять лет, все темномагическое действие этих ритмов Об этом нелегко говорить вслух, поскольку все здесь подается под знаком моды и снобизма, подведен и некий теоретический базис, терминология полуварварского происхождения Однако, если хоть на миг сдернуть эти завесы, которые держатся лишь массовым внушением, то обнаружится совсем тривиальный факт, что, например, победно шествующая по всему миру дискотека, как будто бы не знающая ни национальных, ни религиозных, ни политических границ, на самом деле есть лишь миниатюрная модель преисподней У сибирских шаманов, в атавистических культах Африки она функционировала и сто, и двести лет тому назад, при этом куда с большим эффектом, если говорить о трансе и стадности сознания Придет время, и мираж рассеется Велико же будет изумление людей, когда они осознают, чем жили целое столетие Однако кроме изумления останутся и колоссальные изъяны, потери в цивилизации
В. Ф. Одоевский писал в свое время "каким образом музыка существует в нашем веке? в нашей положительной эпохе она совершенная невозможность, нелепость'
Вся так называемая бравурная музыка, вся новая концертная музыка - следствие этою направления (материализма), еще шаг, и Божественное искусство обра1илось бы просто в фиглярство, - темный дух времени уже близок был к торжеству, но ошибся музыка так сильна своею силою, что фиглярство в ней не долговечно'" (Русские ночи)
Увы - печально восклицаем мы, потомки Одоевского, - тот роковой шаг сделан, и фиглярству не видно конца, ибо "темный дух времени" набрал такую силу, какой не могли предвидеть прозорливые умы XIX в Вторжение Аримана в музыкальное выражается в тупом ударном ритме, имеющем чисто механический характер Он буквально вколачивает в материю душевный элемент, а в общем то - даже само "я", ибо музыка связана с "я" Люциферическое живет в этих ударах благодаря тому, что они часто имитируют удары бича или ног по лежащему на земле телу и тем вызывают психологические ассоциации С другой стороны люциферический элемент взвивается вверх в истерическом пении на высоких нотах или в истонченном звучании инструментов К этому следует еще добавить электрический принцип звучания и совершенно непомерную громкость С помощью всех этих средств душа буквально разрывается надвое и в нее бес препятственно вползают духовные существа самого темного рода, не исключено, что это азурические существа, более опасные, чем ариманические
42 Р Штайнер Лекция от 25 марта 1922 г ИПН 211
43 Там же
44 Р. Штайнер Лекция от 25 авг. 1911 г ИПН 129
45 Р. Штайнер Лекция от 4 янв 1918 г ИПН 180
46 Р. Штайнер Лекция от 10 февр 1914 г (ИПН 148) и от 25 авг. 1911 г (ИПН 129)
47 Здесь и далее см лекцию Р Штайнера от 22 авг. 1911 г и четвертую главу книги "Христианство как мистический факт" (ИПН 8)
48 Р. Штайнер Лекция от 11 сент. 1923 г ИПН 350
49 Р. Штайнер Лекция от 25 марта 1922 г ИПН 211
50 Там же
51 Р. Штайнер Очерк тайноведения, гл IV ИПН 13
52 Р. Штайнер Лекция от 27 авг. 1911 г ИПН 129
53 Там же
54 В.В. Зеньковский История русской философии, ч III, стр. 148
Прочитавший эту книгу с особым вниманием мог бы получить немалый социальный опыт. Книга довольно насыщенная по содержанию, в ней можно встретить немало значительных мыслей, характеристик (в первом очерке мы цитировали одну из них в связи с Чаадаевым). Но, к сожалению, не это оказывается в ней главным. Автор довольно успешно воспользовался гетевским советом: "обдумай "что", но более обдумай "как", но совершенно в иных, чем у Гете, целях. И вот об этом "как" необходимо сказать несколько слов. Зеньковский подходит к истории развития русской мысли как анатом к трупу. Он не исследует ее, а "препарирует", расчленяет на отдельные элементы и элементики и к каждому (как латинское название к мышце) прикрепляет этикеточку: от кого и откуда эта мысль заимствована. Совершив подобную работу, автор в конце своего труда как бы отбрасывает в сторону ланцет, вытирает руки и спрашивает нас: так где же Бог в этой секуляризованной культуре? И поскольку читатель, благодаря операции Зеньковского, Его действительно не увидел, то ему остается лишь сделать вывод: культура невозможна вне церковной ограды. Так весьма ловко автор создает в своей книге аллюзию (что это такое, см. лекцию Р.Штайнера от 1 янв. 1919; ИПН 187). Читатель-материалист найдет в книге массу интересных для него фактов, а остальное оставит без внимания - оно покажется ему не убедительным, но и не навязчивым. Читатель-идеалист, но не владеющий философией профессионально, не справится с обилием материала и вынужден будет принять его подачу на веру. К конечному выводу автор его подтолкнет, но не ранее, чем будет проделана вся подготовительная работа в его подсознании. Кто желает убедиться в правильности наших слов, может поставить один небольшой опыт. Пусть он возьмет у Зеньковского то место, где он говорит о мировоззрении Одоевского (стр. 146-156, ч. 1) и сравнит это с тем, что стоит у самого Одоевского в "Русских ночах" и "Психологических афоризмах", а также в письмах и статьях по эстетике. Будет совсем не трудно увидеть, сколь тонко производит Зеньковский подмену. Благодаря ей духовный облик Одоевского совершенно стушевывается, и остаются: заурядный эпигон, все мысли которого сплошь у кого-нибудь заимствованы, да еще назидательно поднятый палец Зеньковского: не смейте искать духа вне церкви, лишь в ней вы найдете все, что нужно для вашего спасения; вот русская культура посмела ослушаться, а что из того вышло? пустое блуждание!
55 Р. Штайнер. Лекция от 9 июня 1910 г. ИПН 121.
56 См. сборник: "Русские эстетические трактаты первой трети XIX в.". М., 1972, т. II, стр. 172.
57 Там же, стр. 172.
58 Там же, стр. 171-172.
59 Там же, статья "Сущее или существующее", стр. 169.
60 Там же, стр. 168-171.
61 Там же, стр. 171.
62 В.Ф. Одоевский. Русские ночи, стр. 241.
63 Там же, стр. 198.
64 И в этом Одоевский был не одинок. В 1824 г. проф. Д.М. Велланский писал ему: "... в 1804 г. я первый возвестил российской публике о новых познаниях естественного мира, основанных на теософическом понятии, которое хотя значилось у Платона, но образовалось и созрело в Шеллинге".
65 В.Ф. Одоевский. Русские ночи, стр. 182.
66 Многими другими чертами Одоевский обнаруживает себя как эзотерика, причем нового, розенкрейцерского типа. Так, у него определенно имеется прозрение в действие люциферических и ариманических сил в человеческой природе и в общественных отношениях. В "Психологических заметках" имеется такая мысль: "Знание и сообразование с одним прошедшим ввергает человека в летаргию; знание и сообразование с одним будущим ведет к беспредметной деятельности, следственно, вредной, ибо вред в некотором смысле есть не что иное, как следствие деятельности, направленной к цели, отдаленной от настоящего момента". В "Русских ночах" (ночь 6-я) Одоевский выражается еще откровеннее: "У враждебной силы две глубокие и хитрые мысли: первая - она старается всеми силами уверить человека, что она не существует, и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая - сравнить людей между собой как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце...".
67 Д.В. Веневитинов. Собрание сочинений. М., 1934, стр. 254, 301, 305.
68 Д.С. Мережковский. М.Ю.Лермонтов - поэт сверхчеловечества. Полн. собр. соч, т. XVI, М., 1914, стр. 160-161. Эта статья - лучшее из всего, что написано о Лермонтове.
69 Там же, стр. 184.
70 Там же, стр. 200.
71 Там же, стр. 196.
72 Там же, стр. 202.
73 Д.С. Мережковский. Гоголь. Творчество, жизнь и религия. Полн. собр. соч., т. XV, стр. 308.
74 Э.Л. Радлов. Очерки истории русской философии. СПб, 1920, стр. 56.
75 В.Ф. Одоевский. Русские ночи, стр. 221.
76 P.Christoff. An introdiction to XIX-century Russian slavophilism. Mouton, 1961, p.10.
77 И.В. Кириевский. Сочинения. М., 1861, т.1, стр. 241.
78 Ю.Ф. Самарин. Сочинения, т. V, стр. 55.
79 И.В. Кириевский. Сочинения. М., 1911, т. 1, стр. 245.
80 Ю. Самарин. Предисловие ко 2-му тому "Сочинений" А.Хомякова.
81 См. Э.Л.Радлов. Очерки истории русской философии.
82 К.С. Аксаков. Собрание сочинений, т. 1, стр. 595.
83 А.С. Хомяков. Сочинения, т. 1, стр. 240.
84 Д.С. Мережковский. Л.Толстой и Достоевский. СпБ, 1910, стр. 128, Т.П.
85 С.Г. Нечаев (1847-1882) происходил из мещанской семьи, получил начальное педагогическое образование и некоторое время работал учителем. В связи с участием в студенческих беспорядках был вынужден бежать в Швейцарию, где встретился с М.А. Бакуниным и И. П. Огаревым. Они отправили его снова в Россию с заданием создать там революционное общество. Нечаев начал в Москве с организации так называемых "пятерок", конспиративных групп, описанных Достоевским в "Бесах", а затем создал организацию "Народная расправа". Дисциплина в ней была настолько диктаторская, что вызвала протест со стороны некоторых ее членов. Один из них (Иванов) был за это убит по указанию Нечаева. Программа и принципы общества были изложены в "Катехизисе революционера", написанном под влиянием идей и прокламаций Бакунина. В "Катехизисе" говорилось: "наше дело - страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение... соединимся с диким разбойничим миром, этим истинным и единственным революционером в России". Далее "Катехизис" определял иерархическое устройство организации, согласно которому революционеры делились на несколько разрядов; последний разряд рассматривался как некое "сырье" для революционной деятельности, рекомендовалось только экономнее его расходовать. Допускалась иезуитская тактика, освящавшая все средства. "Поганое общество", которое нужно было разрушить без всякой пощады, подразделялось на шесть категорий. Первая из них осуждалась на немедленное уничтожение; ко второй были отнесены те, кому "даруют только временно жизнь, чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта"; в третью категорию было включено "множество высокопоставленных скотов... (с) влиянием и силой", их следовало "сделать своими рабами"; в четвертую - "государственные честолюбцы и либералы", их предписывалось "компрометировать до нельзя... и их руками мутить государство"; в пятую - доктринеры, конспираторы "праздно глаголящие", их необходимо толкать на практические дела, где последует "бесследная гибель большинства"; в шестую группу входили женщины, разделенные, в свою очередь, на три подгруппы. См. Ф.М.Достоевский. Поли. собр. соч. в 30-ти томах. 1975 г. Изд. "Наука", т. 12, "Наброски 1870-1872 гг", отдел примечаний, стр. 192-195.
86 Цитировано по кн.: Н.Я. Эйдельман. Герцен против самодержавия. М., 1973, стр. 311.
87 М.Гершензон. История молодой России. М., 1908, стр. 200.
88 Р. Штайнер. Лекция от 13 ноября 1918. ИПН 184.
Но все это, продолжает далее в лекции Р. Штайнер, лишь подготовление к духовнонаучному созерцанию, склонное к галлюцинациям. Оно должно быть соединено с образным созерцанием природы. Тогда мы поднимемся и над иллюзорным естествознанием и над галлюцинаторной духовной жизнью.
89 Вл. Соловьев. Собрание сочинений, т. 1, стр. 285-287.
90 Вл. Соловьев. Собрание сочинений, т. IX стр. 188.
91 Р. Штайнер. Лекция от 1 янв. 1922. ИПН 210.
92 Воспоминания о русском художнике П.А. Федотове. СпБ, 1853, стр. 4-5.
93 Р. Штайнер. Лекция от 17 июня 1909. ИПН 107.
94 Р. Штайнер. Лекция от 26 февр. 1911. ИПН 127.
95 Р. Штайнер. Лекция от 28 февр. 1911. ИПН 124.
96 Н.Ф. Федоров. Философия общего дела. Издана в одном томе: Сочинения, М., 1982, См. всю первую часть.
97 Д.С. Мережковский. "Земля во рту". Полн. собр. соч, т. XV, стр. 167, 172.
98 Там же, стр. 176, 174.
99 К.А. Свасьян. Голос безмолвия. Ереван, 1984, стр. 159-160.
100 А. Белый. Воспоминания о Блоке (1922-1923), стр. 155.
101 М. Woloschin. Die Giune Schlange. 1954, S. 191. Stuttgart.
102 J.R.R.Tolkien. The Lord of the Rings. London, 1996.
103 Приведем некоторые высказывания Р.Штайнера, в которых он характеризует 8-ю сферу.
В лекции от 23.XI. 1919 (ИПН 194) он говорит, что мы, как люди, принадлежим к 4-й сфере развития, которая есть земной зон. Наши Творцы - Духи Формы - принадлежат к восьмой сфере развития, которой мы достигнем в зоне будущего Вулкана. "Но обе эти сферы мы должны представлять себе совмещенными, проникающими одна сквозь другую... так что мы живем не просто в 4-й сфере, но одновременно и в 8-й благодаря тому, что в ней живут наши Божественные Творцы". Однако в ней живут еще ариманические и люциферические существа.
Люцифер и Ариман в борьбе с Духами Формы постоянно стараются оторвать от Земли минеральную субстанцию и формируют из нее то, что, как они надеются, позволит им увлечь 8-ю сферу на свой путь. Особенно острая борьба идет за наиболее благородную субстанцию нашего мозга и черепа. Если бы у них все шло гладко, то они "в определенный момент уничтожили бы Землю и все мировое развитие перевели в 8-ю сферу и повели бы его другим путем". Поэтому нам надлежит возвышать мысли, отличать добро от зла. Особенно супостаты стараются уловить моменты, когда свободная воля преобразуется в атавистическое ясновидение. То, что при этом образуется, уносится ими в 8-ю сферу и творит ее призраки. "Когда наивные люди полагают, что достигли бессмертия... отрываются части их душевного существа и препарируются для 8-й сферы". Особенно эффективно подобная деятельность развивается на спиритических сеансах. (ИПН 254. См. также ИПН93-аи 172).
104 P. Штайнер. Лекция от 20 октября 1918. ИПН 185.
105 Р. Штайнер. Лекция от 7 августа 1920. ИПН 199.
106 Р. Штайнер. Лекция от 5 октября 1917. ИПН 292.

